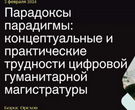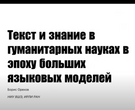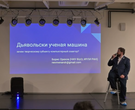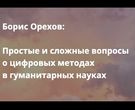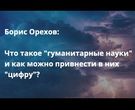- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Факультет гуманитарных наук
- Школа лингвистики
- Новости
- Ошибки, которые всё объясняют: ученые обсудили будущее психолингвистики
-
Школа
- О школе
- Сотрудники
- Семинары
-
Исследовательские подразделения
-
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Центр «Русский как иностранный»
- Центр цифровых гуманитарных исследований
- Центр языка и мозга
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория учебных корпусов
- Лаборатория теоретической и полевой фольклористики
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
-
-
Проекты
-
Проекты сотрудников
-
Проекты студентов и аспирантов
-
Завершённые проекты
- Некомпозициональные конструкции в эритажном русском
- Компьютерные и лингвистические ресурсы для поддержки шугнанского языка
- Лингвоспецифическая разметка китайских текстов в Русско-китайском параллельном корпусе НКРЯ
- Цифровой архив: создание корпуса журнала "Отечественные записки"
- Создание лингвокультурологического подкаста о России для иностранцев «Yellow Blue Bus» (Я люблю вас)
- База данных русских идиом
- Компьютерные и корпусные инструменты для иранистических исследований
- Русский разговорный клуб
- Шугнанские глаголы в типологическом освещении
- Создание академического онлайн-словаря персидского языка
-
- Международное сотрудничество
- Экспедиции
- Ресурсы
- Препринты
- Наша книжная полка
-
Образовательные программы
- Бакалаврская программа «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Лингвистическая теория и описание языка»
- Магистерская программа «Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур»
- Магистерская программа «Цифровые методы в гуманитарных науках»
- Аспирантская школа по филологическим наукам
Адрес: 105066, г. Москва,
Старая Басманная ул., д. 21/4
Телефон: +7 (495) 772-95-90 доб. 22734
E-mail: ling@hse.ru
Редакторы сайта — Наталья Борисовна Пименова, Максим Олегович Бажуков, Константин Евгеньевич Сатдаров
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
- Научно-учебная лаборатория учебных корпусов
- Центр «Русский как иностранный»
- Научно-учебные группы
- Каталог проектов по компьютерной лингвистике
- Проекты, поддерживаемые грантами
- Русский язык для всех
- Лингвистический кружок для школьников
- Лингвистика в Центре открытого образования
Школа лингвистики была образована в декабре 2014 года. Сотрудники школы преподают на образовательных программах по теоретической и компьютерной лингвистике в бакалавриате и магистратуре. Лингвистика, которой занимаются в школе, — это не только знание иностранных языков, но прежде всего наука о языке и о способах его моделирования. Научные группы школы занимаются исследованиями в области типологии, социолингвистики и ареальной лингвистики, корпусной лингвистики и лексикографии, древних языков и истории языка. Кроме того, в школе создаются лингвистические технологии и ресурсы: корпуса, обучающие тренажеры, словари и тезаурусы, технологии для электронного представления текстов культурного наследия.
В печати
Nasledskova P., Netkachev I.
Studies in Language. 2026. P. 1-44.
В печати
Lander Y., Bagirokova I., Lander A.
In bk.: Theoretical Issues in the Languages of the Caucasus. Amsterdam: John Benjamins, 2026.
arxiv.org. Computer Science. Cornell University, 2024

Ошибки, которые всё объясняют: ученые обсудили будущее психолингвистики

Мировая лингвистика сегодня переживает «многоязычную революцию»: эпоха англоязычного доминирования в когнитивных науках подходит к концу, все чаще исследователи изучают многообразие языков мира. Более того, мультилингвизм из экзотики становится нормой, что кардинально меняет представления о когнитивных возможностях человека. В Вышке обсудили будущее развитие экспериментальной лингвистики.
Открывая конференцию, директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Драгой отметила, что мероприятие стало результатом многолетнего сотрудничества исследователей, объединенных интересом к малоизученным языкам и экспериментальным методам их изучения. «Наш центр занимается экспериментальными исследованиями языка и мозга, и мы хорошо понимаем, насколько даже русский язык остается недостаточно описанным. Что уж говорить о языках, у которых нет богатых ресурсов. Поэтому нам особенно важно обменяться опытом и координировать усилия», — подчеркнула она.
Конференция собрала представителей Института языкознания РАН, Адыгейского государственного университета, Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова (Татарстан), МГУ им. М.В. Ломоносова, Центра изучения, сохранения и развития родных языков Академии наук Республики Саха (Якутия), Института языка им. Р. Ачаряна (Армения), Института языкознания им. А. Байтурсынулы (Казахстан), Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова (Казахстан), Ферганского государственного университета (Узбекистан) и Городского университета Нью-Йорка (США).
Программа включила доклады об экспериментальных методах лингвистических исследований, обсуждения региональных практик и серию круглых столов. В первый день ученые сосредоточились на систематизации российских исследований, во второй — на сотрудничестве между центром и региональными лабораториями в РФ, а третий день был посвящен международным коллаборациям и завершился дискуссией о создании консорциума университетов и лабораторий, изучающих малоизученные языки.
«Мы хотим объединить усилия университетов и исследовательских центров, чтобы совместно разрабатывать единую программу по изучению редких языков — не только с точки зрения лингвистики, но и с позиции нейронауки и когнитивных исследований», — отметила директор Ольга Драгой.
От «предложений-заблуждений» до цифровых тестов
Первой с докладом об истории становления экспериментальной лингвистики — дисциплины на стыке психологии, нейронауки и лингвистики — выступила профессор Городского университета Нью-Йорка Ирина Секерина.
Начало истории современной психолингвистики она отнесла к 1959 году, когда профессор Массачусетского технологического института Ноам Хомский подверг критике бихевиористский подход к языку и предложил концепцию универсальной грамматики. «Это была настоящая революция, — отметила профессор. — Язык впервые стали рассматривать не как поведенческий навык, а как отражение внутренней ментальной структуры человека».
Первые эксперименты позволили ученым увидеть, как мозг человека обрабатывает речь, строит синтаксические структуры и реагирует на неоднозначные предложения.

Одним из ключевых открытий второй половины XX века стало изучение так называемых garden-path sentences — «предложений-заблуждений», где слушатель или читатель сначала приписывает многозначному предложению неправильную синтаксическую структуру, т.е. ошибается. «Когда мы слышим фразу, мозг автоматически связывает первое слово с ближайшим глаголом, а затем вынужден переосмыслять эту структуру, если контекст указывает на другое значение. Эти ошибки восприятия — золотая жила для исследователей, ведь они показывают, как именно человек понимает язык», — пояснила Ирина Секерина.
Такие примеры помогли сформировать модели понимания речи, которые описывали, как слушатель ошибается и как потом корректирует интерпретацию. В 1980–1990-х годах активно обсуждались две конкурирующие модели — теория «предложений-заблуждений» (garden-path model) и модель ограничений, которая учитывала влияние контекста и частотности слов.
В 1990-е годы в России практически не проводились экспериментальные исследования русского языка. Именно Ирина Секерина совместно с коллегами создала первую серию экспериментов по русским «предложениям-заблуждениям» и опубликовала материалы в сборнике «Вопросы языкознания».
В 1990-х годах метод записи движений глаз при чтении перевернул подход к эксперименту. Теперь ученые могли видеть, на какой части фразы спотыкается взгляд, когда испытуемый пытается осмыслить многозначное предложение. Позже появились и электрофизиологические методы — регистрация вызванных потенциалов мозга, позволяющая фиксировать реакцию на синтаксические ошибки за доли секунды.
«Эта революция в методах изменила все, — подчеркнула исследователь. — Мы получили возможность видеть, как язык работает в реальном времени, а не только по конечным ответам человека».
С начала XXI века психолингвистика пережила парадигмальный сдвиг от традиционных моделей к статистическим и компьютерным. Сегодня ученые изучают предсказуемость — способность человека угадывать, какое слово прозвучит дальше, — и индивидуальные различия в этом навыке.
Одновременно психолингвистика стала по-настоящему международной. Если в 1990-х почти все исследования проводились на носителях английского языка, то сегодня все чаще изучаются испанский, китайский, казахский и славянские языки. В Восточной Европе формируются новые лаборатории, объединенные в сетевые консорциумы — от Варшавы до Москвы.
Современный вызов для всей экспериментальной науки — кризис воспроизводимости. «Мы должны быть уверены, что наши данные надежны. Для этого создаются международные инициативы вроде ManyBabies и ManyLabs, где десятки лабораторий повторяют эксперименты друг друга на разных языках и выборках», — рассказала профессор.
Однако в сфере психолингвистики это удается довольно редко. В 2015 году международный консорциум из 270 исследователей попытался повторить сто ключевых психологических экспериментов, но лишь 39% из них подтвердились.
Чтобы повысить прозрачность, ученые переходят к предварительной регистрации исследований, выкладывают материалы в открытые репозитории и публикуют результаты независимо от того, подтвердились гипотезы или нет. «Это делает науку честнее и сильнее», — подчеркнула ученая.
Сегодня психолингвистика, как и другие науки, попала в цифровое пространство. Онлайн-платформы позволяют проводить эксперименты дистанционно — с помощью веб-трекеров взгляда и браузерных интерфейсов, заменяющих дорогостоящее оборудование. «Мы живем в эпоху, когда лаборатория помещается в ноутбук, — сказала Ирина Секерина. — Главное теперь — обучить новое поколение исследователей, владеющих малоизученными языками, статистикой и кодом. Без них дальнейшее развитие экспериментальной лингвистики невозможно».
В завершение профессор отметила, что психолингвистика давно перестала быть делом узкого круга специалистов. Это поле, где активно взаимодействуют когнитивная психология, ИИ, нейронаука и язык. «Наши ошибки в понимании — не промахи, а окно в устройство человеческого разума. И чем глубже мы туда заглядываем, тем яснее становится: язык — не просто средство общения, а инструмент познания мира», — заключила докладчица.
Билингвизм как суперсила
Выступление директора Центра языка и мозга Ольги Драгой было посвящено языковому разнообразию и революции в лингвистике. Она рассказала, что на сегодня почти все данные основаны на англоязычных исследованиях. Полвека английский был универсальным языком науки — не только рабочим инструментом, но и главным объектом изучения.
«Английский язык до сих пор остается доминирующим в психолингвистике и когнитивных исследованиях, — рассказала Ольга Драгой. — Это не хорошо и не плохо — просто исторический факт. Но когда выводы о языке вообще делаются на материале одного языка, они начинают искажать картину человеческого мышления».
Такое смещение исследовательского фокуса получило даже собственное название — эффект WEIRD (от английского Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic). Именно представители таких обществ — западных, образованных, индустриальных, богатых и демократических — становились типичными участниками психологических и лингвистических экспериментов XX века.

На карте языков мира, которую показала Ольга Драгой, обозначено более 7000 языков. Однако большая часть из них так и не стала объектом экспериментальных исследований: в психолингвистических экспериментах изучались только 57, то есть менее 1%. «Все наше знание о языке базируется на данных крайне узкого круга — в основном европейских языков», — подчеркнула она.
По словам ученого, такая ограниченность приводит к ложным обобщениям. Например, в английском вопросительное предложение строится с перестановкой слов, а в большинстве языков мира вопрос выражается с помощью частицы или интонации — без изменений структуры. То, что казалось естественным в английском, встречается всего у 2–3% языков. А значит, универсальности, на которых строится лингвистика, могут быть иллюзией.
Сегодня, считает исследовательница, лингвистика переживает тихую, но интенсивную революцию. На смену англоязычной централизации приходит принцип языкового разнообразия. Центр языка и мозга НИУ ВШЭ — один из пионеров такого подхода. Его исследователи работают не только в Москве, но и в экспедициях по регионам России: изучают ненецкий, башкирский, якутский, корякский, татарский и другие языки.

«Для нас важно не просто зафиксировать грамматику или лексику, а понять, как язык живет в голове человека. Как дети в двуязычной среде усваивают русский и родной язык, как билингвизм влияет на развитие когнитивных функций. Это дает ключ к пониманию того, как мозг вообще обрабатывает язык», — рассказала Ольга Драгой.
Ещё недавно билингвизм рассматривался как исключение, требующее «коррекции» в педагогике. Сегодня пришло понимание того, что большинство людей на планете владеют более чем одним языком, и это становится когнитивным преимуществом. У билингвов по-другому организованы когнитивные процессы: у них лучше развиты внимание, контроль, способность переключаться между задачами. Билингвизм из аномалии превратился в новую норму.
Исследователи ВШЭ наблюдают это на примере детей, живущих в двуязычной среде в самых разных регионах России — от Адыгеи до Ненецкого округа. Несмотря на то что в школу они приходят с разной степенью владения русским языком, к семи-восьми годам дети свободно осваивают обе языковые системы, формируя собственную когнитивную стратегию.
Исследования центра охватывают не только детей, но и взрослых, в том числе пациентов, проходящих нейрохирургические операции. Разработанные в ВШЭ цифровые тесты позволяют картировать языковые зоны мозга, чтобы сохранить их во время хирургического вмешательства.
«Пациенты все чаще просят проводить тестирование не только на русском, но и на родном языке — казахском, татарском, башкирском. Это не просто уважение к культуре, это гарантия того, что после операции человек сохранит способность говорить на всех языках, которые составляют его личность», — рассказала ученая.
Одно из направлений работы центра — создание цифровых инструментов для оценки речи и когнитивных функций. Команда разработала тесты «КОРАБЛИК» (для диагностики детской речи) и «ЛексиМетр» (для оценки навыков чтения). Сейчас они адаптируются для разных языков России и ближнего зарубежья.
«Мы мечтаем, чтобы подобные тесты существовали на каждом языке, на котором говорят в России. И чтобы лингвистика перестала быть монолингвальной. Ведь только многоязычная наука может описать человека по-настоящему», — отметила Ольга Драгой.
Подводя итог, директор Центра языка и мозга подчеркнула, что главная задача исследователей — расширить границы научного знания и вернуть в фокус разнообразие человеческого языка. «Мы живем в эпоху, когда наука наконец перестает быть заложницей одного языка. Настоящая лингвистика начинается там, где кончается английский», — заключила она.
- О ВЫШКЕ
- Цифры и факты
- Руководство и структура
- Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
- Преподаватели и сотрудники
- Корпуса и общежития
- Закупки
- Обращения граждан в НИУ ВШЭ
- Фонд целевого капитала
- Противодействие коррупции
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Сведения об образовательной организации
- Людям с ограниченными возможностями здоровья
- Единая платежная страница
- Работа в Вышке
- ОБРАЗОВАНИЕ
- Лицей
- Довузовская подготовка
- Олимпиады
- Прием в бакалавриат
- Вышка+
- Прием в магистратуру
- Аспирантура
- Дополнительное образование
- Центр развития карьеры
- Бизнес-инкубатор ВШЭ
- Образовательные партнерства
- Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
-
http://www.minobrnauki.gov.ru/
Министерство науки и высшего образования РФ
-
https://edu.gov.ru/
Министерство просвещения РФ
-
http://www.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование»
-
https://elearning.hse.ru/mooc
Массовые открытые онлайн-курсы
- © НИУ ВШЭ 1993–2026 Адреса и контакты Условия использования материалов Политика конфиденциальности Карта сайта
- Редактору