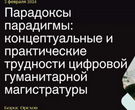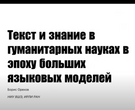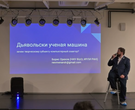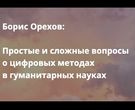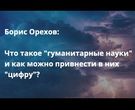- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Факультет гуманитарных наук
- Школа лингвистики
- Новости
- Истории Школы лингвистики. Интервью с Ниной Роландовной Добрушиной
-
Школа
- О школе
- Сотрудники
- Семинары
-
Исследовательские подразделения
-
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Центр «Русский как иностранный»
- Центр цифровых гуманитарных исследований
- Центр языка и мозга
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория учебных корпусов
- Лаборатория теоретической и полевой фольклористики
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
-
-
Проекты
-
Проекты сотрудников
-
Проекты студентов и аспирантов
-
Завершённые проекты
- Некомпозициональные конструкции в эритажном русском
- Компьютерные и лингвистические ресурсы для поддержки шугнанского языка
- Лингвоспецифическая разметка китайских текстов в Русско-китайском параллельном корпусе НКРЯ
- Цифровой архив: создание корпуса журнала "Отечественные записки"
- Создание лингвокультурологического подкаста о России для иностранцев «Yellow Blue Bus» (Я люблю вас)
- База данных русских идиом
- Компьютерные и корпусные инструменты для иранистических исследований
- Русский разговорный клуб
- Шугнанские глаголы в типологическом освещении
- Создание академического онлайн-словаря персидского языка
-
- Международное сотрудничество
- Экспедиции
- Ресурсы
- Препринты
- Наша книжная полка
-
Образовательные программы
- Бакалаврская программа «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Лингвистическая теория и описание языка»
- Магистерская программа «Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур»
- Магистерская программа «Цифровые методы в гуманитарных науках»
- Аспирантская школа по филологическим наукам
Адрес: 105066, г. Москва,
Старая Басманная ул., д. 21/4
Телефон: +7 (495) 772-95-90 доб. 22734
E-mail: ling@hse.ru
Редакторы сайта — Наталья Борисовна Пименова, Максим Олегович Бажуков, Константин Евгеньевич Сатдаров
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
- Научно-учебная лаборатория учебных корпусов
- Центр «Русский как иностранный»
- Научно-учебные группы
- Каталог проектов по компьютерной лингвистике
- Проекты, поддерживаемые грантами
- Русский язык для всех
- Лингвистический кружок для школьников
- Лингвистика в Центре открытого образования
Школа лингвистики была образована в декабре 2014 года. Сотрудники школы преподают на образовательных программах по теоретической и компьютерной лингвистике в бакалавриате и магистратуре. Лингвистика, которой занимаются в школе, — это не только знание иностранных языков, но прежде всего наука о языке и о способах его моделирования. Научные группы школы занимаются исследованиями в области типологии, социолингвистики и ареальной лингвистики, корпусной лингвистики и лексикографии, древних языков и истории языка. Кроме того, в школе создаются лингвистические технологии и ресурсы: корпуса, обучающие тренажеры, словари и тезаурусы, технологии для электронного представления текстов культурного наследия.
В печати
Nasledskova P., Netkachev I.
Studies in Language. 2026. P. 1-44.
В печати
Lander Y., Bagirokova I., Lander A.
In bk.: Theoretical Issues in the Languages of the Caucasus. Amsterdam: John Benjamins, 2026.
arxiv.org. Computer Science. Cornell University, 2024

Истории Школы лингвистики. Интервью с Ниной Роландовной Добрушиной
Нина Роландовна Добрушина – доктор филологических наук, с 2017 по 2022 руководительница Международной лаборатории языковой конвергенции, с 2023 года научный сотрудник Laboratoire Dynamique du Langage (CNRS, Лион, Франция). Публикуем фрагменты интервью, записанного 22 сентября 2024 года.
До начала всего
— Нина Роландовна, если я правильно понимаю, вы были в Школе лингвистики с самого начала, когда еще вообще ничего не было. Расскажете про это?
— Да, я была в самом начале, еще до того, как кто бы то ни было появился на сцене. Я долго была единственным фактически лингвистом в Вышке. Дело было так, что в 2003 году нам позвонила Екатерина Владимировна Рахилина, которая была нашей приятельницей, и сказала, что одна ее знакомая ищет кого-нибудь, кто стал бы преподавать русский язык в Высшей школе экономики. Речь шла о преподавании предмета, который назывался «Русский язык и культура речи». Преподавать его нужно было разным студентам, которые не были лингвистами, например, менеджерам и экономистам. Это советская еще, мне кажется, идея, что такой предмет должен быть у всех направлений.
Должна сказать, что я в тот момент даже не знала, что такое Высшая школа экономики, не слышала об этом университете. Я работала тогда в школе, преподавала русский язык, в хорошей такой школе. Репетиторствовала очень много. И занималась лингвистикой, насколько хватало времени от всего прочего. И подумала, что надо пойти в Вышку, потому что, во-первых, это все же было высшее учебное заведение, а, во-вторых, это были довольно приличные деньги по тем временам. И пошла.
А эта знакомая Екатерина Владимировны была – Елена Наумовна Пенская, с которой мы потом много лет вместе работали. И меня взяли на отделение деловой и политической журналистики. Это было отделение на факультете политологии, и там работало несколько литературоведов, включая саму Елену Наумовну. Там работали в тот момент Андрей Немзер, Константин Поливанов, Майя Кучерская, а лингвистов не было, и они решили, что они могут себе позволить еще и лингвиста.
— То есть ФГН еще не было?
— Нет-нет, ФГН гораздо позже появился. Это отделение внутри политологии было единственное по-настоящему гуманитарное. Отдельными факультетами были социологи, экономисты, политологи и, наверное, все. Даже философы позже открылись. То есть я действительно была единственным в тот момент таким лингвистом-лингвистом. Еще до меня на отделении была Юлия Кувшинская, которая у нас сейчас работает тоже. Она в тот момент занималась фольклором. Потом еще взяли туда же Аню Плисецкую. Вот и все. И мы преподавали курс русского языка менеджерам, экономистам, ну и, конечно, журналистам.
Первое зерно: социолингвистика
— И это все было слабо связано с собственно с лингвистикой?
— Это не было никак связано, это гораздо больше было связано с тем, что я преподавала в школе, какая-то стилистика. Но как раз в эти годы в Вышке стали придумывать инструменты для развития именно научной, исследовательской деятельности. В частности, появились надбавки за публикации в их зачаточном состоянии, появилась система грантов на научно-исследовательские проекты. Это все появилось через год или через два, после того как я начала там работать.
Я, конечно, очень хотела подать на такой грант, но там не было ни направления филологии, ни лингвистики, только социология, экономика и политология. И поэтому первую заявку я подала по социолингвистике. Смешно сказать, но ровно потому, что появились эти гранты и было направление, которое называлось «социология», я и стала заниматься социолингвистикой. Я не помню, в каком порядке это было, но помню, что мы c Михаилом Александровичем Даниэлем в связи с этим всем поехали на летнюю школу по социолингвистике, которую устраивал Николай Борисович Вахтин в Петербурге. Не помню, в каком порядке — сначала школа, а потом грант или наоборот. Но точно, что я тогда вообще стала смотреть в этом направлении и пытаться понять, что это такое. На грант я подала что-то про многоязычие в Дагестане. Мы тогда ездили в Арчиб с Мариной Чумакиной, и я начала брать там интервью про многоязычие, чтобы получить этот грант.
«Два века в двадцати словах»
И в то же время мы предприняли еще одну попытку заниматься настоящей лингвистикой. Был один очень сильный курс журналистов, там были очень хорошие студенты. И они писали у меня курсовые работы по корпусу, который тогда начал развиваться. Я давала им маленькие темы по разной вариативности, которую можно было отследить в корпусе. Довольно много у меня было тогда таких курсовых. И когда эти симпатичные ребята появились, мы решили подать на большой грант, который тогда назывался «Учитель – ученики». Был такой грант, где группа из студентов и преподавателей что-то вместе делали. И у них, кстати, были большие деньги тогда, больше, чем потом. После кризисов они стали гораздо меньше. И это была серьезная причина подать на грант – это прокармливало многих студентов.
Я тогда придумала проект по истории слов, значений слов. Потому что студенты были гуманитарные ребята, и я подумала, что им будет интересно смотреть на историю развития значений в корпусе. Мы подали на грант, который потом, в конце концов, превратился в книжку, которая называется «Два века в двадцати словах». Это была огромная, гигантская, многолетняя работа. Потом, уже после окончания этого гранта, мы долго-долго доделывали эту книжку. Немножко я, конечно, тогда махнула и заявила это все, преувеличив возможности студентов. Они хорошие были, действительно сильные и работящие ребята. Но написать статью для научно-популярной книжки люди, наверное, не могут в этом возрасте. Совершенно не потому что они недостаточно сильные, а просто это реально слишком сложная задача. Поэтому мы тогда замучились с этим. Хотя ребята были очень хорошие. И, собственно говоря, один человек из этой команды был Даня Скоринкин. Который через этот проект потом пошел в магистратуру по компьютерной лингвистике. И в конце концов оказался в школе лингвистики преподавателем и так далее.
Открытые семинары
— Это какие годы, получается? Конец нулевых?
— Да, начали в 2008 или 2009. И тогда еще под это дело мы стали устраивать семинары. Была идея, что надо обсуждать свои результаты с какими-то более профессиональными людьми. И мы раз в месяц на протяжении какого-то времени объявляли семинары в открытом доступе. То есть я посылала объявления в mosling и писала каким-то людям, особенно историкам, специально просила приходить. И они приходили в Вышку. Я думаю, что это были единственные лингвистические мероприятия в Вышке. Михаил Александрович Даниэль был соруководителем этого проекта, но не официально.
Возникновение филологического факультета
— А в каком отношении это все находилось к другим лингвистическим центрам, которые существовали в то время? То есть была же лингвистика тогда в РГГУ и в МГУ, Вы никак не были с ними связаны?
— Я бы сказала, ни в каком отношении не находилось. Студентов мы не набирали, у нас были студенты-журналисты, поэтому мы никакой конкуренции никому не составляли. Но в какой-то момент появилась мысль о том, что в Вышке тоже нужна нормальная лингвистика, как в других местах. Может быть, это была идея Елены Наумовны Пенской, которая руководила этим отделением словесности, что надо это все превращать в полноценный факультет, а на факультете должны быть лингвисты. А может быть, это была идея Ярослава Ивановича Кузьминова. Потому что Кузьминов очень хотел развивать гуманитарную науку. Он считал, что Вышка должна быть полноценным университетом, по крайней мере в гуманитарной области. И он сначала открыл философский факультет. А потом начали придумывать филологический факультет. Ну и, конечно, мы там оказались.
<..> Елена Наумовна пригласила тогда в качестве второго руководителя программы, в качестве руководителя лингвистической части, Бориса Андреевича Успенского. Он был уже немолодой человек, в Москве почти не бывал, больше работал за границей. Или, наверное, вот как было: Елена Наумовна пригласила в качестве научного руководителя литературоведения Александра Осповата, который тогда был в Америке. А Осповат в свою очередь предложил руководителем лингвистики сделать своего друга и коллегу Бориса Андреевича Успенского. И изначально эти два человека придумывали концепцию программ и набирали людей. И Борис Андреевич Успенский позвал, кого он знал. <…>
Это, кажется, была осень 2010-го года. Кажется, он позвал Валентину Юрьевну Апресян [Прим. ред. — работала в ВШЭ в 2003 — 2004 г. у Е.Н. Пенской, затем пришла в ВШЭ в 2011 г. к Е.В. Рахилиной]. Может быть, Михаила Александровича он позвал. Еще — по исторической части — он позвал своего сына, Федора Успенского, который теперь руководит Институтом русского языка [Прим.ред. — начал работать в ВШЭ в 2012 г.]. И его жену, Анну Литвину [Прим.ред. — начала работать в ВШЭ в 2011 г.]. И с ними мы обсуждали первые программы. Встречались у Осповата, что-то придумывали.
А потом еще вот какая ситуация возникла. Кузьминов, что-то услышав, что-то почитав, с кем-то поговорив, решил, что нам нужна компьютерная лингвистика. И вот мы сидели в какой-то Шоколаднице на Китай-городе и обсуждали, как это вообще сделать, эту компьютерную лингвистику. И кто это мог бы сделать — и мы сказали, что надо позвать Асю Бонч-Осмоловскую. Ася, мне кажется, в тот момент что-то преподавала на ОТиПЛе. А с другой стороны, она уже активно интересовалась компьютерной лингвистикой, работала в компании Авикомп, руководила группой, ей это всё нравилось. А компьютерной лингвистики не было тогда совершенно нигде. <…>
У Бориса Андреевича была своя идея. Мне кажется, она была в своем роде прекрасной, но нереализуемой в тех условиях. Он хотел делать глубокие направления по разным типам филологии: германской, романской, — и славистику, конечно. Очень интенсивные программы образования в этих направлениях, что, в принципе, хорошая вещь, но в современном мире плохо осуществимая. Это были бы маленькие курсы, преподавателей нужно много, слишком дорого. А мы хотели, наверное, наоборот, что-то больше похожее на ОТиПЛ. В общем, мы все тянули в разные стороны, но пытались составлять программу, списки людей. Помню, как мы много часов в нашей квартире на полу что-то рисовали, чертили, писали.
И одновременно была еще какая-то заморочка со стандартом образования. Был запрос на государственном уровне — составить государственные стандарты образовательных программ. Я не знаю, почему это должна была делать Вышка, у которой не было лингвистики в тот момент. Сейчас это кажется странным — задним числом,— но я помню, что была задача написать этот стандарт.
В конце концов из-за этих стандартов развилась конфликтная ситуация, которая все перевернула. <...> Как-то мы не смогли сговориться абсолютно совсем. И тогда Елена Наумовна оказалась в ситуации, когда ей нужно заново искать руководителя лингвистической программы. <…> Она позвонила Екатерине Владимировне Рахилиной и сказала, что вообще катастрофа, все разваливается, ты должна нас спасти. Примерно такой, я думаю, был разговор. И Екатерина Владимировна согласилась — что делать. И это был новый виток развития, на котором уже всем нам стало легче. Мы друг друга понимали, хотели примерно одного и того же.
Первый набор студентов
Осенью 2011 года мы открыли набор, и там было два потока: литературоведы и лингвисты [Прим. ред. — открывшиеся в 2011 году программы лингвистики и литературоведения уже не принадлежали к факультету политологии, а составляли новый филологический факультет; в будущем этот факультет станет частью ФГН, а Школа лингвистики отделится от Школы филологии]. Больше всего мы боялись, что к нам никто не придет. А я еще тем летом была очень сильно беременна. И вот июнь-июль были очень напряженными: одновременно набор студентов и завершение всех этих бюрократических дел с приглашением преподавателей. Я помню, как сидела большую часть этого времени на даче и вела бесконечные переговоры, все эти звонки. И как мы дико волновались из-за набора. Еще Вышка хотела, чтобы мы набрали не меньше 40 студентов. <…>
А потом довольно неплохо мы набрали на самом деле [Прим. ред. — первый набор был 75 человек]. Не знаю, откуда они взялись, эти люди. Помню, что мы ездили по каким-то школам. Михаила Александровича, например, мы послали в школу, где училась наша старшая дочь тогда, в 1543. Он там сделал какое-то рекламное выступление.
— И завлек толпу народу, конечно?
— Ну, толпу не толпу, но один мальчик пришел. Хороший был мальчик, Даня Грачев. Первых людей хорошо помнишь.
И когда появилась Екатерина Владимировна, тогда позвали еще разных людей. Не помню, кто позвал Сашу Летучего. <…> Но Ландер появился еще позже. <…>
Первый год все преподавание происходило на Гнездниковском. Но самое начало я пропустила, потому что я родила в августе Ляку и была некоторое время в декрете, вышла после Нового года. Я помню, что мы очень возились с этими первым студентами. У нас была первая общая рассылка, где бесконечно обсуждался каждый студент с его особенностями, с его проблемами. <…>
— А кто-нибудь из тех студентов стал известным лингвистом? Из самых первых?
— Да, это интересный вопрос. Была такая Маша Медведева. Mожет, она была не на самом первом курсе, но на каком-то очень раннем. И она сейчас пишет PhD где-то в Голландии, по компьютерной лингвистике. Больше не соображу.
Начало международного сотрудничества и научный английский
А первый человек, который приехал с лекциями из-за границы, была Джоханна Николз, в апреле 2012 года. Это все уже было не на Гнездниковском, а на Трифоновском. Я еще помню, что обсуждалось, на каком языке будут эти лекции, потому что Джоханна вообще-то хорошо знает русский. И Екатерина Владимировна говорила, что абсолютно не имеет никакого смысла читать курс по-английски, потому что никто из студентов этого не поймет. Это какие-то фантазии, что можно студентам читать курс по-английски. И что, конечно, нужно по-русски. Но почему-то все-таки по-английски решили. Наверное, Джоханне так было легче, но и нам тоже казалось, что надо по-английски.
— Но почему студенты не знали английский? Они не должны были знать английский для поступления?
— Конечно, они сдавали английский, безусловно. Но все равно не было тогда такого, чтобы по-английски что-то кто-то читал и слушал. Никаких в Москве семинаров по-английски не было, никаких лекций по-английски, никаких англоязычных программ. Это все гораздо позже появилось.
Но я почему еще вспомнила про Джоханну, потому что как раз Маша Медведева вызвалась Джоханну как бы сопровождать. Она ей помогала доехать до университета, как-то ее немножко опекала, потому что у нее как раз был хороший английский. А потом уже мы регулярно стали звать разных людей. Потом уже и Мартин Хаспельмат и Ник Эванс приезжали.
— А чему вы тогда учили студентов? Как выглядела программа?
— Про это лучше спросить Михаила Александровича. Введение в лингвистику, например, было уже в похожем виде с самого начала, мне кажется. А я стала вести социолингвистику, где мы все же читали по-английски статьи.
И наши студенты почти сразу стали ездить по обмену, я помню, как это было. Мы тогда стали дружить с Рупрехтом фон Вальденфельсом, немецким славистом. Он тогда был в университете Берна, в Швейцарии. Мы с ним где-то познакомились и подружились, и Рупрехт предложил (а, может, мы предложили) заключить договор между университетом Берна и Вышкой, чтобы мы могли студентов посылать учиться туда-сюда. Я заключала этот первый договор, мы с Рупрехтом всю эту бюрократию проворачивали, это было очень непросто. Но в то же время это было очень круто, потому что буквально первые наши студенты очень быстро смогли поехать учиться в Швейцарию. В тот момент еще Вышка была богатая, это было до всяких кризисов. И до Крыма, видимо. <…>
И поскольку я начала тогда этим заниматься, то мне сказали, давай ты и дальше будешь это все делать. Я была ответственным по международной части и заключала договора с разными университетами. И мы много назаключали, и много наши студенты ездили. Это было редко тогда и делало нас привлекательными для студентов. С Ниццей был договор, с Иналько (Institut National des Langues et Civilisations Orientales) в Париже, на самых первых курсах.
Первые экспедиции
— Расскажите про поездки в экспедиции со студентами.
— С первой экспедицией было так, что мы очень хотели в Дагестан, и были симпатичные студенты, и нам хотелось их повезти. Но в тот момент Дагестан представлялся в общественном сознании как чрезвычайно опасное место. Не было еще никаких толп туристов, которые теперь туда ездят. И мы попытались закинуть удочку, мол, мы хотим повезти студентов в Дагестан, и нам на уровне администрации университета сказали, что не годится такая идея, ни за что нельзя. <…>
— Но вы знали, что на самом деле это не опасно?
— Да, мы, конечно, считали, что это не опасно. Тем более, что в Мегебе мы были уже много раз и были уверены, что сможем это организовать, что нас там тепло примут. А потом почему-то и Вышка разрешила, стали давать деньги на это.
Зарождение Устьянского корпуса
И устьянская экспедиция была чуть ли не в то же самое время. Это уже была инициатива Рупрехта. Он страшно хотел повезти своих швейцарских студентов в российскую деревню. Это у него была идея-фикс. А у меня было диалектологическое детство, можно сказать. Моя мама — дилектолог, она ездила каждый год в экспедицию, чаще всего в Архангельскую область. И я несколько раз ездила с ней вместе. Так что у меня был некоторый образ такой поездки в голове с детства. Поэтому я вполне охотно согласилась. И мы с Рупрехтом, с несколькими студентами из Берна и из Вышки поехали в Устьянскую область, и потом несколько лет туда ездили. Из этого получился Устьянский корпус, и потом статья в Language Variation and Change, которая стала первой статьей в рамках лаборатории.
— А в Дагестан вы со студентами первый раз поехали чтобы заниматься многоязычием? Или это ещё было что-то другое?
— Надо вспомнить. Гарик, я помню, с нами поехал, проводил уроки фонетики. Я с ним познакомилась перед этой экспедицией, он был такой молоденький совсем. Дима Ганенков поехал, Юра Ландер, вообще-то роскошный состав. А что же мы там вообще делали… Наверное, да, это и была первая такая попытка со студентами собирать многоязычие. Потому что мы ходили в окрестные деревни, собирали эти данные. Плюс к этому пытались и грамматикой заниматься.
Идея международной лаборатории
— А как появилась идея лаборатории?
— Это было очень спонтанно. Когда эти международные лаборатории появились, первой, которая попала в наше поле зрение, была нейролингвистическая лаборатория Ольги Драгой. Они как-то были отдельно, мы с ними не взаимодействовали совсем. Но в то же время мы знали Олю давно, мы с ней когда-то много лет назад ездили вместе в экспедицию в Балкарию. А потом вдруг мы обнаружили, что в Вышке есть такая вот международная лаборатория. И это выглядело очень как-то очень шикарно. Денег много, и здорово все устроено: регулярные семинары, может быть, уже были школы. В общем, вид у этого был очень привлекательный, я бы сказала. Но при этом мысли про то, чтобы что-то такое открывать, как-то не было. Хотя я помню, что Екатерина Владимировна в какой-то момент стала говорить, что надо нам международную лабораторию тоже. Но я даже не знала, как устроены эти конкурсы, кто должен этим всем руководить. В общем, не было этой мысли.
А была другая мысль — мы почему-то решили подавать на мегагрант. В России была — или даже еще остается — такая штука: мегагрант. Очень большой грант, по деньгам и вообще по всему большой, который давался на открытие международного коллектива. Нужен был какой-то очень заметный человек из-за границы, заметный ученый и соруководитель из России. И почему-то мы решили подавать на этот мегагрант. Почему мы решили на него подавать? Наверное, тоже Екатерина Владимировна сказала...
А я не знала, кто вообще поедет, потому что фактически человек должен на три года переехать в Москву. Ну кто вообще на это может согласиться? Смешно. Какой-то крупный западный ученый возьмет и приедет в Москву на три года? Миша предложил написать Джоханне. Мы действительно ее знали неплохо, тем более она уже приезжала раньше с лекциями, и говорила по-русски, и вообще очень сочувствовала российской лингвистике, смотрела в сторону России. И она возьми и согласись. Вот. И мы ввязались в заявку на мегагрант.
Per aspera
Это была страшная заявка, просто страшная. Огромное количество изнурительной бюрократии. Мы ее как-то подали, с помощью вышкинских администраторов, которые нам очень помогли, и не прошли даже первый тур. На каком-то очень раннем этапе нас завернули. А потом мы решили, что раз мы уже столько сил в это вложили, то надо что-то с этим сделать. И подвернулся конкурс этих международных лабораторий, который был внутренний вышкинский, поскромнее. Но тоже, конечно, очень симпатичный. Ну и это все-таки проще, чем соревноваться на уровне государства с математиками и физиками. И заявка уже была фактически готова, и Джоханна тоже была уже готова. Мы переделали заявку под нужный формат, подали и осенью 16-го года уехали в Лион [Прим. ред. — в творческий отпуск]. А где-то в декабре-ноябре вдруг пришел ответ, что заявка на лабораторию одобрена.
Я там была объявлена руководителем, а Джоханна западным соруководителем. Был Михаил Александрович, конечно. Еще мы звали туда Таню Никитину, которая тогда преподавала в Вышке синтаксис. Была одной ногой в Париже, другой ногой в Вышке. Позвали туда Аню Волкову и Олю Ляшевскую. <...> Договорились, что первое время, пока я в Лионе, будет руководить Аня Волкова. И Тимура, конечно, мы позвали, Тимура Майсака. А Таня Никитина, наоборот, отказалась по каким-то причинам. Вот, у меня открыт состав лаборатории 2017 года. Здесь есть уже и Ландер, и Наташа Стойнова, Гарик, Самира Ферхеес, ну и разные студенты. Василиса Жигульская, Илья Чечуро, Василиса Андриянец, Настя Панова, Леша Кошевой, а потом Миша Воронов, Леша Федоренко, Лена Сокур.
— А как была устроена работа лаборатории, помимо семинаров?
— Каждый, так сказать, из взрослых, кто был в лаборатории, говорил, что он хочет делать в рамках лаборатории и на что ему нужны студенты. Соответственно, каждый вел один или два проекта. Вот, например, Оля Ляшевская занималась интонацией, пыталась извлекать интонацию из устных корпусов, которые мы начали уже тогда делать. Это была большая программа по созданию устных корпусов, такая чисто техническая в каком-то смысле, просто по созданию корпусов. Началось все с Устьянского, но Устьянский мы начали вне всякой лаборатории еще давно. И когда мы поняли, что мы примерно уже умеем это делать, стали это активно развивать в лаборатории. Поэтому было много студентов, которые занимались ровно этим, которых мы набирали на создание устных корпусов. Так что были разные темы, у всех было что-то свое.
Из того, что я курировала — во-первых, мы дописали статью про вариативность в Устьянском корпусе. Это была первая наша статья в хорошем журнале, которая была сделана большим коллективом в Вышке, со студентами. Мы очень гордились этим, этой первой статьей. Потом мы начали проект, из которого получилась статья про заимствования и дагестанское многоязычие, которая вышла в Language. А вот еще, что произошло осенью тогда в рамках вот этого открытия лаборатории, это такой большой семинар. Мы решили, что мы должны устроить такое открытие лаборатории, привезя всех западных ученых, которых мы пригласили еще на этапе подачи заявки, коллабораторов, так сказать. Это был Рупрехт, конечно, была Бригитта Пакендорф. Но еще и совершенно новые, неизвестные мне люди. И был фактически недельный семинар с докладами, обсуждениями, круглыми столами. Одновременно мы устроили курс для студентов в вышке, который читал Стефан Грис, замечательный корпусной лингвист. Была такая идея, что лаборатория взаимодействует с учеными из других стран, но как бы должна что-то давать студентам, в учебную программу.
Для меня это все были важные моменты…
— Большое спасибо, Нина Роландовна!
С Ниной Роландовной беседовала Рита Попова
Бонч-Осмоловская Анастасия Александровна
Ганенков Дмитрий Сергеевич
Даниэль Михаил Александрович
Добрушина Нина Роландовна
Николс Джоханна
- О ВЫШКЕ
- Цифры и факты
- Руководство и структура
- Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
- Преподаватели и сотрудники
- Корпуса и общежития
- Закупки
- Обращения граждан в НИУ ВШЭ
- Фонд целевого капитала
- Противодействие коррупции
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Сведения об образовательной организации
- Людям с ограниченными возможностями здоровья
- Единая платежная страница
- Работа в Вышке
- ОБРАЗОВАНИЕ
- Лицей
- Довузовская подготовка
- Олимпиады
- Прием в бакалавриат
- Вышка+
- Прием в магистратуру
- Аспирантура
- Дополнительное образование
- Центр развития карьеры
- Бизнес-инкубатор ВШЭ
- Образовательные партнерства
- Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
-
http://www.minobrnauki.gov.ru/
Министерство науки и высшего образования РФ
-
https://edu.gov.ru/
Министерство просвещения РФ
-
http://www.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование»
-
https://elearning.hse.ru/mooc
Массовые открытые онлайн-курсы
- © НИУ ВШЭ 1993–2026 Адреса и контакты Условия использования материалов Политика конфиденциальности Карта сайта
- Редактору