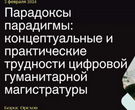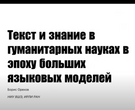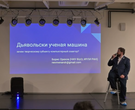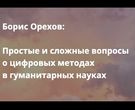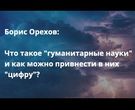- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Факультет гуманитарных наук
- Школа лингвистики
- Новости
- Истории Школы лингвистики. Интервью с Ольгой Викторовной Драгой
-
Школа
- О школе
- Сотрудники
- Семинары
-
Исследовательские подразделения
-
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Центр «Русский как иностранный»
- Центр цифровых гуманитарных исследований
- Центр языка и мозга
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория учебных корпусов
- Лаборатория теоретической и полевой фольклористики
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
-
-
Проекты
-
Проекты сотрудников
-
Проекты студентов и аспирантов
-
Завершённые проекты
- Некомпозициональные конструкции в эритажном русском
- Компьютерные и лингвистические ресурсы для поддержки шугнанского языка
- Лингвоспецифическая разметка китайских текстов в Русско-китайском параллельном корпусе НКРЯ
- Цифровой архив: создание корпуса журнала "Отечественные записки"
- Создание лингвокультурологического подкаста о России для иностранцев «Yellow Blue Bus» (Я люблю вас)
- База данных русских идиом
- Компьютерные и корпусные инструменты для иранистических исследований
- Русский разговорный клуб
- Шугнанские глаголы в типологическом освещении
- Создание академического онлайн-словаря персидского языка
-
- Международное сотрудничество
- Экспедиции
- Ресурсы
- Препринты
- Наша книжная полка
-
Образовательные программы
- Бакалаврская программа «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Лингвистическая теория и описание языка»
- Магистерская программа «Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур»
- Магистерская программа «Цифровые методы в гуманитарных науках»
- Аспирантская школа по филологическим наукам
Адрес: 105066, г. Москва,
Старая Басманная ул., д. 21/4
Телефон: +7 (495) 772-95-90 доб. 22734
E-mail: ling@hse.ru
Редакторы сайта — Наталья Борисовна Пименова, Максим Олегович Бажуков, Константин Евгеньевич Сатдаров
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
- Научно-учебная лаборатория учебных корпусов
- Центр «Русский как иностранный»
- Научно-учебные группы
- Каталог проектов по компьютерной лингвистике
- Проекты, поддерживаемые грантами
- Русский язык для всех
- Лингвистический кружок для школьников
- Лингвистика в Центре открытого образования
Школа лингвистики была образована в декабре 2014 года. Сотрудники школы преподают на образовательных программах по теоретической и компьютерной лингвистике в бакалавриате и магистратуре. Лингвистика, которой занимаются в школе, — это не только знание иностранных языков, но прежде всего наука о языке и о способах его моделирования. Научные группы школы занимаются исследованиями в области типологии, социолингвистики и ареальной лингвистики, корпусной лингвистики и лексикографии, древних языков и истории языка. Кроме того, в школе создаются лингвистические технологии и ресурсы: корпуса, обучающие тренажеры, словари и тезаурусы, технологии для электронного представления текстов культурного наследия.
В печати
Nasledskova P., Netkachev I.
Studies in Language. 2026. P. 1-44.
В печати
Lander Y., Bagirokova I., Lander A.
In bk.: Theoretical Issues in the Languages of the Caucasus. Amsterdam: John Benjamins, 2026.
arxiv.org. Computer Science. Cornell University, 2024

Истории Школы лингвистики. Интервью с Ольгой Викторовной Драгой

От нейролингвистики в Европе и США к ВШЭ
— Расскажите, пожалуйста, немного о своем бэкграунде. Как Вы пришли к тому, чтобы заниматься нейролингвистикой?
— Я окончила отделение теоретической и прикладной лингвистики МГУ. В этом смысле я такой же по бэкграунду лингвист, как и большинство в Школе лингвистики. Но современная лингвистика разноликая, и я пошла по направлению изучения языка в контексте биологической функции. Это меня всегда увлекало. Для этого логично было получить хорошее базовое лингвистическое образование, чтобы понимать, как язык устроен в целом. А затем пришлось много и долго учиться другим вещам, чтобы можно было заниматься нейролингвистикой. В частности, я окончила магистратуру по клинической лингвистике в Европе. У меня было несколько нейролингвистических постдоков в Европе и в Соединенных Штатах. То есть, я после такого стандартного обучения довольно много поездила по миру, по лучшим нейролингвистическим и клинико-лингвистическим лабораториям.
— Когда Вы начали свою деятельность в НИУ ВШЭ? В каком качестве?
— В Вышку я полноценно пришла в 2013 году. Мне предложили создать тогда небольшую научно-учебную лабораторию нейролингвистики. Она, кстати, входила в состав объединенной школы филологии и лингвистики. Ей заведовала Елена Наумовна Пенская. Научно-учебная лаборатория нейролингвистики входила туда как структурное подразделение. Затем мы выросли до Центра и стали отдельным подразделением. Но до сих пор все содержательные и формальные связи сохраняются. Например, наш Центр языка и мозга, в который со временем превратилась Лаборатория нейролингвистики, является ассоциированным подразделением Факультета гуманитарных наук в Вышке. И я до сих пор занимаю должность профессора в Школе филологии, теперь уже в соседней, дружественной Школе лингвистики.
Рождение Лаборатории нейролингвистики
— Лаборатория нейролингвистики была создана в 2013 году, а годом позже в Вышке возникла Школа Лингвистики. Как было организовано взаимодействие Лаборатории и Школы тогда?
— Как я уже сказала, в 2013 году мы были структурным подразделением объединенной школы филологии и лингвистики. А через год наш центр выиграл конкурс, и мы стали международной лабораторией. Это такой особый статус в Вышке. Подобные подразделения могут быть ассоциированы тематически с какими-то факультетами, но, как правило, являются самостоятельными. Поэтому центр вышел из структуры школы, и дальше мы уже росли независимо.
Но все содержательные связи и с одной, и с другой школой сохранялись. Мое твердое убеждение – нейролингвистикой должны заниматься преимущественно лингвисты. Человек без базового продвинутого лингвистического образования не может заниматься этим полноценно, только в команде с лингвистами. Придумать эксперимент, создать идеальный материал, учтя все лингвистические переменные — ни психолог, ни биолог не может это сделать так, как лингвист. Поэтому студенты-лингвисты в Вышке – это основной пул, из которого мы черпаем стажеров-исследователей, а затем и сотрудников нашего Центра. Их большинство у нас.
История учебных курсов
— Какие учебные курсы читались Центром языка и мозга для студентов Школы? Как они были разработаны? Как Вы оцениваете этот опыт?
— Они всегда назывались похоже: курс по экспериментальной лингвистике, курс по психо- и нейролингвистике. Как-то это даже был курс МАГОЛЕГО для всего университета. Мы начинали в магистратурах Школы лингвистики читать отдельные курсы. Все-таки структурная лингвистика – это необходимая часть нейролингвистики, поэтому структурный лингвист – наша целевая аудитория. И, кажется, не было ни одного года, когда мы не читали что-либо из экспериментальных курсов в магистратуре.
А затем Юрию Ландеру пришла идея о том, чтобы создать отдельный трек в бакалавриате Школы лингвистики. Изначально было два трека – теоретический и компьютерный, прикладной. Но очень много студентов хотело и волонтёрить, и писать курсовые, и работать у нас в Центре, наша отрасль экспериментальной лингвистики уже превратилась в мощное магистральное направление. Юрий Александрович предложил создать третий трек, экспериментальный. И уже несколько лет мы его реализуем, пробуем разные форматы, изменяем, подстраиваемся. То есть это все еще живой организм. И в этом смысле, мне кажется, это такая органичная третья ниточка, вплетенная в тело всего лингвистического образования в Высшей школе экономики.
— Расскажите про программу нейротрека подробнее. На что вы ориентировались при разработке?
— В первый год читаются теоретические курсы по психо- и нейролингвистике, а затем психо- и нейролингвистический практикум. В этом курсе задействовано огромное количество наших сотрудников Центра языка и мозга, потому что у каждого из нас есть специализация. Кто-то занимается нейровизуализационным исследованиями, например, МРТ, ЭЭГ языка, кто-то занимается билингвизмом, кто-то видеоокулографией, кто-то на афазиях специализируется. И для каждого модуля мы выделили специализированного сотрудника, который читает свой сегмент. Так студенты получают информацию от лучших экспертов из первых рук.
— Скажите, а изменилось ли что-то глобально в организации нейротрека? Или, может быть, хотелось бы что-то изменить в будущем?
— Несколько лет этот курс шел, как он есть сейчас: первый год теоретический, лекционный, второй – практикумы. Сейчас витает идея немного изменить формат – накопился некоторый опыт, есть предложения рационализаторские.
Но принципиально мне кажется, что курс довольно неплохо реализуется. Студенты, приходя на наш трек, тут же приходят писать у нас курсовые. И помимо аудиторных часов получают очень-очень много практической, живой работы и с участниками, и с различным оборудованием. Конечно, просто слушать лекции и пройти даже полностью этот трек, и не бывать хотя бы на еженедельной основе в лаборатории… Так не куются экспериментальные кадры.
Экспедиции
— Расскажите, пожалуйста, о других совместных проектах Школы и Центра языка и мозга. Про недавнюю экспедицию в Адыгею, например.
— Да, это очень свежая история. Конечно, сотрудники Школы лингвистики – известные экспедиционеры в Адыгею. И Юрий Ландер, и многие другие коллеги, можно считать, карьеру сделали на этих экспедициях.
Наша история экспериментальной полевой лингвистики очень свежая. Это то, что мы начали всего несколько лет назад. И если классический структурный лингвист едет в экспедицию для того, чтобы собрать словарь, описать грамматические явления, зафиксировать это в книгах, если язык вымирающий, то мы вывозим в поле эксперименты, очень сильно приближенные к тому, что мы делаем в лабораториях. Если это видеоокулография, то мы везем с собой видеокулограф, находим тихую комнату, занавешиваем шторы, по одному тестируем участников, очень долго готовим сам эксперимент. Там все должно быть выверено, и сначала с одним носителем мы создаем материал, после с несколькими другими проверяем, консультируемся с лингвистами в Школе лингвистики. То есть в экспедицию мы приезжаем с готовым экспериментом и собираем данные в течение нескольких недель. После приезжаем в Москву и анализируем.
В Адыгее мы проводили тестирование с помощью айтрекинга, видеоокулографии, и уже несколько экспериментов сделали за эти два года. Мы разработали и на русском, и на адыгейском различные тесты для оценки состояния когнитивных функций для русско-адыгейских билингвов. Например, есть гипотеза о том, что билингвизм является положительным фактором, способствующим более позднему возникновению и меньшей выраженности деменции в старческом возрасте. Вслед за этим витает идея, что человек, который постоянно переключается между двумя языками, тренирует свою управляющую функцию. И измерив аккуратно эти функции в популяции билингвов, мы ожидаем увидеть, что некоторые когнитивные неязыковые функции будут у них более развиты по сравнению с популяцией монолингвов. В мире много лабораторий этим занимается, но пока ответа нет. Мы тоже включились в эту работу, и в этом году мы тестировали когнитивными тестами и в айтрекинговых экспериментах носителей адыгейского языка, которые, конечно, все билингвы.
Школа лингвистики независимо тоже ездит в Адыгею по своей программе. И у нас в этом году возникла идея объединить усилия и попробовать сделать совместную экспедицию. В некоторой степени нам это удалось. Я думаю, что с каждым годом мы будем все плотнее и плотнее упаковываться представителями разных команд. В этом году с нами поехали две студентки, которые собирали данные по своему проекту с Юрием Ландером, и в наших проектах они тоже участвовали. Наши экспериментальные коллеги тоже им помогали, где нужно было.
В экспедицию каждый едет исходно со своей задачей. Но поскольку мы все варимся в едином котле, мы и рассказываем друг другу о совместных исследованиях, и помогаем. Например, если какой-то наплыв участников в один день, конечно, мы не можем их просто так отпустить. Мы свободные руки бросаем на то, чтобы собрать материал по всем проектам. Здесь мы не делаем никакого разделения «это мой проект, это твой проект». Мы все — единый коллектив.
Это первый пример – два человека из команды Юрия Ландера поехали с нами в этом году. Я надеюсь, что и другие команды к нам присоединятся. А мы к ним. И все это станет еще более единым и органичным.
— То есть совместно с Школой вы пока ездили только в Адыгею?
— Да, совместно только в Адыгею. В принципе, Центр языка и мозга ездил еще в экспедиции, например, в Ямало-Ненецкий округ. Мы изучали детский билингвизм, русско-ненецкий. Потом вместе с коллегами из Института языкознания была небольшая совместная экспедиция в хантыйский язык. Там мы тоже использовали видеокулограф.
Затем, если выходить за пределы Российской Федерации, мы ездили в экспедицию в Амазонию, в Колумбийскую Амазонию, два года назад, в язык туюка, тоже с видеоокулографом. Мы изучали, как устроена категория эвиденциальности в туюке и как носители туюка справляются с желанием использовать маркеры эвиденциальности, когда они говорят по-испански, где эвиденциальности нет. Это была, наверное, самая экзотическая экспедиция. Мы набрали очень много материала, до сих пор его обрабатываем. И сейчас подходим к тому, что пора организовывать вторую экспедицию в туюке.
О методах экспериментального лингвиста
— Расскажите немного подробнее про методологию. Как вы подбираете методы для того или иного исследования?
— Экспериментальный лингвист существует в той парадигме, что если есть какое-то интересное лингвистическое явление, про которое непонятно, как оно устроено на субстрате головного мозга, как оно в психике функционирует, как взаимодействует с другими когнитивными функциями, мы бросаемся на него. И какими методами мы на него бросаемся – это совершенно вторично. Может быть, какая-то тяжелая артиллерия: МРТ делаем, исследуем структуры головного мозга. Может быть, это просто какой-то легкий поведенческий эксперимент, где надо читать и нажимать кнопочки. К каждой задаче мы подбираем адекватную методологию.
Конечно, не нужно стрелять из пушки по воробьям. Поэтому в Амазонии достаточно поведенческих методов и не сильно продвинутого видеоокулографа. А в Москве у нас есть возможность заглянуть в структуру головного мозга и посмотреть прирост серого вещества в определенных участках у билингвов по сравнению с монолингвами. Потому что МРТ-сканер – это очень стационарная штука.
О возможностях сотрудничества
— Может быть, есть какие-то еще совместные проекты со Школой лингвистики, которые Вам хотелось бы упомянуть? Планируются ли новые совместные проекты?
— Совершенно точно с каждой новой экспедицией в каждый новый язык мы открыты к сотрудничеству со специалистами Школы лингвистики, потому что у сотрудников Школы лингвистики есть опыт выезда в языки, которые нас интересуют. Например, сейчас речь идёт о том, чтобы поехать в корякский язык на Камчатке, и есть сотрудники Школы лингвистики, которые туда уже ездили. Конечно, мы хотим это сделать вместе. Это то, что сейчас витает в воздухе.
Студенты Школы лингвистики выполняют свои проекты на базе нашего Центра, речь идет о десятках курсовых и дипломных работ. Это само по себе является очень плотной научной связкой между Школой лингвистики и Центром. Очень часто в таких проектах мы задействуем и преподавателей Школы.
Выходя за пределы курсовых работ, есть, например, стратегические проекты Вышки. И есть один из проектов, называется «Устойчивый мозг». В этом проекте я руковожу темой по созданию лингвистических инструментов для диагностики и коррекции речевых расстройств. И, в частности, один из проектов – это разработка игрового приложения для коррекции аномии. Это расстройство называния у пациентов после инсульта: человеку сложно подбирать слова, называть предметы. Вместе с компьютерными лингвистами Школы лингвистики, в частности, с Ольгой Ляшевской и ее студентами, с сотрудниками Центра языка и мозга и нашими программистами мы создали планшетное приложение для коррекции аномии в игровой форме. Пациенту нужно называть рисунок на экране. Рисунки подобраны из нашей психолингвистической базы и предъявляются в автоматизированном режиме с наращиванием сложности. Мы знаем про предметы на рисунках возраст усвоения, зрительную сложность, частотность, все лингвистические характеристики. Над рисунком находится мишень со стрелой. И если пациент правильно называет рисунок, стрела летит в центр. Если у него какое-то фонологическое искажение, летит во второй или в третий круг, а если ошибается – стрела пролетает мимо. И программа подсказывает правильную номинацию. Тем самым пациент может самостоятельно, дома этим заниматься в качестве тренажера. Это игровая тренировка с вознаграждением, но тем не менее, за этим стоит серьезная лингвистика. И это очень понятный и успешный прикладной проект, который мы сделали вместе с компьютерными лингвистами Школы лингвистики. И такого рода проекты постоянно у нас возникают.
Пожелания Школе
— Спасибо! Несмотря на долгую и плодотворную историю сотрудничества, Центр языка и мозга и Школа лингвистики – это два совершенно разных подразделения. Как вы оцениваете опыт Школы со стороны?
— Раньше было, скажем, парочка очень хороших лингвистических отделений в стране. А теперь есть Школа лингвистики в Вышке, и уже не парочка, а троечка. И в целом, это совершенно равнозначные структуры по уровню образования, по качеству, и по научной продукции, и по образовательной. А в плане оборотов, если можно так сказать, Школа лингвистики дает больше гораздо кадров, чем любое другое аналогичное отделение или подразделение в других университетах, при сохранении качества. Но лингвистика у нас в стране, к счастью, никогда не была такой, что вот это лучше в одном университете, а это – в другом, и мы будем конкурировать или враждовать между собой. Поэтому можно сказать, что Школа лингвистики – это очень яркий, позитивный персонаж в продвинутой российской лингвистической школе.
— Школа лингвистики в этом году [в 2024] отмечает юбилей. Что бы Вы хотели ей пожелать?
— Я бы хотела пожелать Школе лингвистики такого же, как и за последние 10 лет, бодрого и позитивного развития. Мы в совершенно понятном смысле зависим от Школы лингвистики, потому что именно вы формируете кадры, которые потом приходят в наше направление. И если бы не Школа лингвистики с таким высококачественным, базовым лингвистическим образованием, то некому в стране было бы заниматься нейролингвистикой. Поэтому нейролингвисты выражают глубокую благодарность лингвистам Школы лингвистики и очень надеются, что такое же взаимодействие будет продолжаться и дальше — все ярче и интенсивнее.
С Ольгой Викторовной беседовала Ульяна Арсентьева
- О ВЫШКЕ
- Цифры и факты
- Руководство и структура
- Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
- Преподаватели и сотрудники
- Корпуса и общежития
- Закупки
- Обращения граждан в НИУ ВШЭ
- Фонд целевого капитала
- Противодействие коррупции
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Сведения об образовательной организации
- Людям с ограниченными возможностями здоровья
- Единая платежная страница
- Работа в Вышке
- ОБРАЗОВАНИЕ
- Лицей
- Довузовская подготовка
- Олимпиады
- Прием в бакалавриат
- Вышка+
- Прием в магистратуру
- Аспирантура
- Дополнительное образование
- Центр развития карьеры
- Бизнес-инкубатор ВШЭ
- Образовательные партнерства
- Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
-
http://www.minobrnauki.gov.ru/
Министерство науки и высшего образования РФ
-
https://edu.gov.ru/
Министерство просвещения РФ
-
http://www.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование»
-
https://elearning.hse.ru/mooc
Массовые открытые онлайн-курсы
- © НИУ ВШЭ 1993–2026 Адреса и контакты Условия использования материалов Политика конфиденциальности Карта сайта
- Редактору