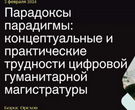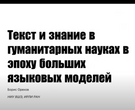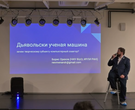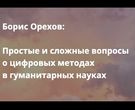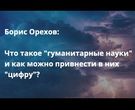- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Факультет гуманитарных наук
- Школа лингвистики
- Новости
- Истории Школы лингвистики. Интервью со Степаном Михайловым
-
Школа
- О школе
- Сотрудники
- Семинары
-
Исследовательские подразделения
-
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Центр «Русский как иностранный»
- Центр цифровых гуманитарных исследований
- Центр языка и мозга
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория учебных корпусов
- Лаборатория теоретической и полевой фольклористики
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
-
-
Проекты
-
Проекты сотрудников
-
Проекты студентов и аспирантов
-
Завершённые проекты
- Некомпозициональные конструкции в эритажном русском
- Компьютерные и лингвистические ресурсы для поддержки шугнанского языка
- Лингвоспецифическая разметка китайских текстов в Русско-китайском параллельном корпусе НКРЯ
- Цифровой архив: создание корпуса журнала "Отечественные записки"
- Создание лингвокультурологического подкаста о России для иностранцев «Yellow Blue Bus» (Я люблю вас)
- База данных русских идиом
- Компьютерные и корпусные инструменты для иранистических исследований
- Русский разговорный клуб
- Шугнанские глаголы в типологическом освещении
- Создание академического онлайн-словаря персидского языка
-
- Международное сотрудничество
- Экспедиции
- Ресурсы
- Препринты
- Наша книжная полка
-
Образовательные программы
- Бакалаврская программа «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Лингвистическая теория и описание языка»
- Магистерская программа «Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур»
- Магистерская программа «Цифровые методы в гуманитарных науках»
- Аспирантская школа по филологическим наукам
Адрес: 105066, г. Москва,
Старая Басманная ул., д. 21/4
Телефон: +7 (495) 772-95-90 доб. 22734
E-mail: ling@hse.ru
Редакторы сайта — Наталья Борисовна Пименова, Максим Олегович Бажуков, Константин Евгеньевич Сатдаров
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
- Научно-учебная лаборатория учебных корпусов
- Центр «Русский как иностранный»
- Научно-учебные группы
- Каталог проектов по компьютерной лингвистике
- Проекты, поддерживаемые грантами
- Русский язык для всех
- Лингвистический кружок для школьников
- Лингвистика в Центре открытого образования
Школа лингвистики была образована в декабре 2014 года. Сотрудники школы преподают на образовательных программах по теоретической и компьютерной лингвистике в бакалавриате и магистратуре. Лингвистика, которой занимаются в школе, — это не только знание иностранных языков, но прежде всего наука о языке и о способах его моделирования. Научные группы школы занимаются исследованиями в области типологии, социолингвистики и ареальной лингвистики, корпусной лингвистики и лексикографии, древних языков и истории языка. Кроме того, в школе создаются лингвистические технологии и ресурсы: корпуса, обучающие тренажеры, словари и тезаурусы, технологии для электронного представления текстов культурного наследия.
В печати
Nasledskova P., Netkachev I.
Studies in Language. 2026. P. 1-44.
В печати
Lander Y., Bagirokova I., Lander A.
In bk.: Theoretical Issues in the Languages of the Caucasus. Amsterdam: John Benjamins, 2026.
arxiv.org. Computer Science. Cornell University, 2024

Истории Школы лингвистики. Интервью со Степаном Михайловым

Публикуем фрагменты интервью, записанного 27 сентября 2024 года.
Первый доклад про японский
- Когда ты начал свою деятельность по лингвистическому направлению в Вышке и вообще как начал здесь работать?
- Ну, наверное, прямо начал я на втором курсе, у нас был НИС «Типология аспекта», который вёл Олег Волков, и я сделал там доклад со своим другом про японский. И после этого доклада Олег ко мне подошёл и сказал: «Это что-то интересное, давайте что-то с этим делать». А я к нему подошёл и сказал: «Я хочу у вас писать курсач». Он говорит: «Ну, вот японский». И так началась моя лингвистическая деятельность.
От «технаря» к лингвисту
- А какой у тебя был вообще бэкграунд?
- У меня, скорее, не было никакого бэкграунда, ну, то есть, у меня в школе неплохо получались математика и языки в части грамматики, неплохо получалась физика, но мне было лень решать задачи, поэтому я ушёл с какого-то физтех-профиля в гуманитарный. И всё, я сдал ЕГЭ как мог и учился на платке в бакалавриате. Вот. Но сейчас я понимаю, конечно, что математика и языки мне нравились не просто так. Я теперь занимаюсь формальной лингвистикой, то есть применяю математический аппарат к языкам.
- Здорово! А вообще, когда ты поступал, у тебя были альтернативы? Как получилось, что именно в Школу лингвистики, а не куда-нибудь ещё?
-
- Да у меня не было альтернатив, я вообще не особо думал о будущем. Ну, то есть я понял, что лингвистика прикольна, потому что я смотрел, куда можно поступить, наткнулся на лингвистические задачки, порешал их, и это было «вау», абсолютно. А потом я поговорил с кем-то из старших товарищей, и они такие, вот, типа, в Вышке неплохо, там есть скидка и так далее, в общем, иди туда. Вот я сюда и пошёл, и это оказалось идеально, абсолютно.
- Круто! Звучит прямо, как такая счастливая история.
- Это она и есть.
Четыре должности и немного организаторства
- Замечательно. А вообще, в каких качествах, в каких ролях у тебя есть какие-то профессиональные связи с нашей лингвистической, со Школой лингвистики в Вышке?
- Да на странице, мне кажется, у меня написано четыре должности. Я аспирант, я преподаю немного, и у меня в двух лабораториях есть научные ставки, вот. Ну, то есть, мне кажется, я всеми возможными способами здесь повязан. На странице у меня про это не написано, но во всякой административной деятельности Школы лингвистики я тоже участвую, потому что у нас так принято, чтобы была какая-нибудь небольшая административная обязанность. Так что да, мне кажется, я участвую во всём.
- А помимо записанного, это в основном какая-то административная деятельность? Интересно, есть ли что-то еще?
- Ну, то есть, нет, административного как раз мало.
- Ну, в смысле, типа организационной?
- Ну да, этого не очень много. В этом сентябре этого много, но это такой сентябрь просто особенный. Но основная деятельность, конечно, вся научная. То есть я занимаюсь своими исследованиями, я обсуждаю с коллегами их, притом в очень разных форматах. То есть это бывает разговор за кофе, или что мы садимся вместе и планируем, как человеку лучше писать статью, по каким этапам, или как мне лучше писать статью, по каким этапам и так далее. Ну, то есть, прежде всего, это, конечно, научная деятельность, а всё остальное — это какие-то дополнительные к этому вещи. Либо потому что так надо, либо потому что чуть-чуть такого тоже хочется.
- А расскажи, а в каких мероприятиях академических, например, связанных со Школой лингвистики ты принимал участие вообще за весь свой путь?
- Я участвовал в летних школах, и это было суперважно. В семнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом годах и вот в этом году тоже. В семнадцатом была школа TyLex, что расшифровывается как Typology and Lexicon. В восемнадцатом была школа про ареальную лингвистику и языки России. В девятнадцатом у нас была школа, которую мы нашей лабораторией делали про формальный синтаксис и формальную семантику. И это, пожалуй, основное. То есть я по большей части не участвовал в каких-то конференциях, которые Вышка организует, не считая Волго-Камского воркшопа, который действительно мы организовывали. Да. Наверное, Летняя школа — это основное из академического.
- А какая из них тебе больше всего запомнилась?
- На этот вопрос ответить невозможно... Нет, я, правда, не могу ответить на этот вопрос, потому что они все были очень яркие и очень важные и очень много мне дали. Ну, TyLex имел наибольшую значимость, потому что именно на нём Лёша Козлов позвал меня в Марийскую экспедицию. Благодаря этому я стал уралистом и полевым лингвистом, и много чем ещё. Вот. Но запомнились они все одинаково.
- Можешь рассказать эту историю ещё раз?
- Да. Это было достаточно ярко. Школа была в центре Вороново, и там на неделю, получается, вывезли кучу людей, мы там все вместе жили, нас кормили, мы ходили на лекции, и у нас были какие-то активности. Такой, действительно, очень сплочающий экспириенс. И там было, само собой, очень много вышкинских студентов, при этом было ещё много зарубежных студентов и зарубежных профессоров, и все как-то, действительно, дружно общались, это было здорово.
- Это было очень прикольно. Вот так ты стал частью наших уральских экспедиций.
- Да. Благодаря Лёшиной прозорливости.
Пикники и «Конь» по-монгольски
- Да, это замечательно. А какие вообще за твою историю были неформальные мероприятия, то есть какие-то в нашей Школе лингвистики?
- Были пикники и Новые года. Я помню, как на первом курсе, тогда ещё пикники были два раза в год, один в конце весны, другой в начале осени. И был пикник в начале осени, действительно, когда я был на первом курсе, и я страшно смущался. И я на него не поехал, потому что я страшно смущался. В смысле, я думал, я вообще какой-то чужой человек, как я могу туда поехать? Хотя сейчас, конечно, когда у меня 9 лет позади в Школе лингвистики, я понимаю, что у нас абсолютно не такое отношение к первокурсникам. Люди, которые сюда поступили, они уже часть семьи, и мы всегда им рады везде и так далее. Да, и в конце года был пикник, на который я действительно поехал, и там было здорово. Среди ярких вещей: там Юрий Александрович играл на гитаре и пел, и это было уникально абсолютно, потому что обычно такое у нас тут не показывают. И ещё я разговаривал с Полиной Касьяновой, которая раньше тоже у нас училась и преподавала, и она рассказывала про свой опыт работы с научным руководителем. Собственно, ей руководил Ландер как раз, и она рассказывала, каково это, и как это для неё идеально и круто, что это такой волшебный «экспириенс». Вот это мне очень ярко запомнилось. Ну и Новые года, на которые люди придумывают всякие активности и так далее. Мне кажется, обычно я ничего особенного не делал, ну, то есть мы играли в какие-то настолки или пели под гитару или ещё что-то, но на третьем курсе мы учили монгольский в теор-группе, и мы сделали сценку на монгольском. Мы сделали костюмы, мы перевели на монгольский песню «Выйду ночью в поле с конём» и спели её. И это было абсолютно легендарно.
- Надеюсь, вам всем после этого десятки поставили.
- Ну, оценки у нас были неплохие.
На даче в пандемию
- А вот ты, кажется, на своём пути застал ещё пандемию. А как вообще работала Школа лингвистики в это время, и как это переплелось с твоей историей, с твоей научной и учебной жизнью?
- Я, на самом деле, не очень знаю, как работала Школа лингвистики, потому что я тогда вёл три курса, два из них я вел в ИКВИА, но у меня был НИС аспектуальный уже тогда, то есть сейчас я говорю про весну 20-го года. И мне кажется, что первоначальный переход я не заметил, потому что это был мой первый год преподавания, я полгода отвёл очно. Нет, четыре курса. Да, тогда я четыре курса вёл. Полгода два курса я отвёл очно, потом весной 20-го всё случилось, ну и как-то, я не знаю, люди сорганизовались с зумами, я спокойно достаточно вёл свои пары в зуме у себя на даче, там хватало интернета для этого, и вообще в ус не дул. Я тогда просидел четыре месяца на даче, было отлично. Потом в 21-м тоже был онлайн период, и я тогда преподавал намного больше, но вот как-то это было неплохо. Тогда у меня как раз было больше курсов у наших студентов, и было нормально. Нормальные такие семинары, люди были активные, мы там как-то использовали чат.
О «перекрестных» знакомствах
- Здорово. А какие проекты, которые сейчас у нас есть в Школе лингвистики, тебе кажутся особенно интересными? Может быть, ты бы в них хотел принять участие, или наоборот, тебе бы не хотелось принимать участие, но тебе интересно следить за результатами?
- Я должен сказать, что я не так много знаю про разные проекты, которые у нас происходят, как хотел бы, потому что сейчас слишком занятая жизнь. То есть вот есть открытые семинары лаборатории Арктики и лаборатории межъязыковой конвергенции, и я хотел бы на них ходить почаще. А так на арктические семинары я ещё ни разу не приходил, на конлабные, мне кажется, раза два. [Хотел бы ходить почаще], чтобы действительно больше знать, что делают коллеги, потому что я не сомневаюсь в том, что у нас делают очень много очень крутых, очень разноплановых вещей. Я про это знаю мало. Мне очень интересно, что делают в Арклабе особенно, потому что они там гораздо больше применяют методов социогуманитарных наук и изучают какие-то такие вопросы. Мне кажется это очень важным, и в моём собственном опыте в Школе лингвистики этого было мало, поэтому хочется как-то за этим следить и учиться думать в таких терминах.
Преподавание
- А какие вообще курсы ты вёл? То есть, ты говорил про курсы у ИКВИА, у наших...
- Да, я вёл у ИКВИА «Введение в лингвистику» и «Академическое письмо», и «Введение в лингвистику» я продолжаю вести. И там и там семинары. Ну и вообще я веду везде семинары, и было два НИСа. Один НИС у меня идёт сейчас: «Акциональность и аспект». Это мой собственный НИС, который я веду в одиночку. И это прям такая очень драгоценная для меня штука. Всегда получаю большое удовольствие от неё.
- Это очень любопытно и для меня тоже лично, потому что это часть истории, с которой я соприкасалась. Как раз в мой год у нас была и твоя морфология, и твой синтаксис, и «Акциональность и аспект».
- Да, были времена.
- А вот что оказалось для тебя неожиданным, когда ты начал преподавать?
- Хм… Это сложный вопрос. Ну окей, это было не сразу. То есть мне кажется, что в первый год, как я сейчас помню, ничто особо не было для меня неожиданным. То есть я очень хотел преподавать и получил такую возможность. И просто как бы работал, многому учился и работал. И это было интересно. А вот во второй год у меня стало гораздо больше курсов. И неожиданным было то, насколько это на самом деле сложно и насколько много времени занимает нормальная подготовка к семинарам, особенно по дисциплинам, в которых ты не так хорошо разбираешься, типа русской морфологии. Насколько это важно реально хорошо подготовиться заранее, чтобы быть спокойнее, лучше себя чувствовать, ну и лучше провести пару. Мне кажется, что у нас вообще мало про такое рассказывают, про стресс, связанный с преподаванием и с подготовкой пар. И может быть было бы лучше стараться как-то помогать людям, которые начинают преподавать, в это интегрироваться. Потому что это действительно сложно. Ну и это было неожиданно.
- А какие в целом были впечатления от начала работы? И вот как, например, они эволюционировали от начала работы до окончания первого учебного курса, который ты отвел?
- Я искренне люблю преподавать. Я люблю заниматься наукой больше, поэтому, наверное, я преподаю немного. Но практически всё, что я вёл, мне нравилось. В смысле, каждая пара. Я думаю, что те пары, которые мне не нравились, это было по моей вине, потому что я недостаточно подготовился и был не в том состоянии. И вот мне кажется, что это не менялось никогда. С 19-го года, как я начал преподавать, это основное впечатление, что мне нравится.
- Это просто мечта. То есть человек, который и занимается глубоко наукой, и с другой стороны умеет и любит преподавать. Такие люди, мне кажется, это очень перспективный тип людей.
- Ну да, важно в процессе не перегрузиться и не выгореть.
- Это правда. Дай нам всем бог сил, чтобы мы и не выгорали, и не перегружались.
- Это точно.
О поколениях студентов
- А вот как вообще менялись студенты? Интересно твоя перспектива как студента, когда ты учился, и уже теперь, когда ты преподаёшь. Изменилось ли что-то в процессе? Как изменились люди, атмосфера? Есть ли какое-то ощущение, что то, что было тогда, и то, что есть сейчас, немножко другое?
- Тут есть две вещи, мне кажется. С одной стороны, у нас стали больше курсы просто, которые набирают, и из-за этого есть любопытный эффект, который я не осознавал, но я просто поговорил с младшими коллегами и узнал, что для них это так обстоит, что люди могут проучиться на одном курсе 4 года и не знать друг друга типа вообще. Для меня это странно, потому что у нас был очень дружный курс. Понятно, что не то чтобы все со всеми дружили, но у нас не было такого, что люди не разговаривали и не общались друг с другом. Мы устраивали какие-то вечеринки большие на весь курс, и на них были все, и все со всеми танцевали, играли и так далее. В общем, мы знали друг друга. Я не знаю, может быть, у нас был какой-то исключительный курс, но я думаю, что это связано ещё с тем, что действительно нас было заметно меньше. И вот это как бы одна штука, что оказывается люди внутри менее дружные и менее сплоченные. Я не уверен, что это плохо, это просто по-другому. То есть мне не кажется, что курсы, которые сейчас учатся и выпускаются, что они в каком-то смысле из-за этого хуже.
Воспоминания о самых интересных курсах
- Это говорит очень много хорошего о нашей Школе лингвистики. А вот какие курсы учёбы для тебя были самыми знаковыми?
- Ну, конечно, курсы из серии теории языка все. Наверное, семантику... Нет, окей, не все. Потому что синтаксис у нас был достаточно простенький, и это был просто курс. В отличие от фонетики и морфологии, которые были безумно яркими и вовлекающими, синтаксис был просто курс, а семантику я прогулял. И я этим не горжусь, а сейчас вообще жалею и подумываю, когда время расчистится, походить на семантику к бакалаврам. И это, конечно, иронично, потому что я сам стал семантистом в итоге, но я семантику прогулял. Вот, курсы теории языка и все вообще теоретические курсы по грамматике мне были безумно интересны. Курс типологии, какие-то отдельно взятые НИСы, вот типа НИС типологии и аспекта, грамматическая семантика, такие штуки, да.
- Это хорошо... Показывает, насколько у нас широкий бакалавриат.
- Ага.
- А какие события вообще в Школе лингвистики стали самыми знаковыми и запоминающимися? Ну, то есть, ты уже много рассказывал про какие-то памятные моменты, а можно ли какой-то там, не знаю, условно говоря, топ?
- Ну, наверное, для моей личной истории я бы выделил... Вот, кстати, ещё один курс, это на первом курсе у нас был НИС, который назывался «Анализ и синтез шекспировского текста», и там мы с Ольгой Ильиничной Виноградовой поставили «Бурю» Шекспира, и мы ездили в Англию с этой постановкой, и там участвовали в шекспировском фестивале в Стратфорде на Эйвоне. И там, собственно, её играли. И это было потрясающе ярко и запоминающееся, и я до сих пор очень благодарен Ольге Ильиничне за этот опыт. Это первое. Второе — это TyLex, который определил мою судьбу как полевого лингвиста. И третье, я бы сказал, это создание нашей формальной лаборатории. И это произошло в конце того года, в который был TyLex. TyLex был в сентябре 2017-го. Лабораторию мы создали типа в конце года, то есть где-то в мае 2018-го. Я до сих пор помню первые семинары, которые проходили в 518-й, и там Наталия Анатольевна нам рассказывала про теорию информационной структуры, мы обсуждали классическую статью Рицци, как она там называется? The Fine Structure of the Left Periphery, или что-то такое. Вот, и ещё какие-то статьи. И я помню всех, кто был в первом наборе лаборатории, и вот это было очень ярко. Ну это как бы такая вторая вещь, которая меня определила, это наша лаборатория, благодаря которой я стал формальным лингвистом. Вот, и мне кажется, что это для меня три основных события.
Самое необычное поручение
- Прям топ-3, красиво так получилось. А вообще, что самое необычное ты делал в рамках деятельности, связанной со Школой лингвистики?
- Мы это недавно обсуждали, потому что этот вопрос я как раз запомнил. Тут у меня заранее придуманный ответ. Самое необычное я делаю сейчас, пожалуй, потому что сейчас я координирую выставку на пятом этаже, где сейчас там висят фотографии и небольшие текстики про экспедиции, и мы её расширим, так что займем гораздо большую часть этого коридора и добавим туда всякие экспонаты про историю Школы лингвистики, про важных для нас учёных, про наш бакалавриат и наших студентов. Ну и я невероятно далёк от вообще визуального искусства какого-то, вот в плане, чтобы самому делать. Это очень странно. Тот факт, что я координирую выставку, это очень-очень странно. Но иногда такое бывает, раздаётся звонок, на который нельзя не ответить, и тебе говорят: «Стёпа, хочу попросить вас об одолжении, сделайте выставку». И это странно не в плохом смысле, но мне тяжело, потому что это непривычно и не то, что я умею делать хорошо. Но очень помогает то, что я набрал команду студентов. Притом мне не пришлось никого заставлять или специально искать: действительно много людей сами вызвались и сами охотно очень много чего делают. Вот, поэтому это не страшно, и я думаю, что у нас получится что-то действительно классное.
Самый памятный разговор
- Я буду рада зайти посмотреть на эту выставку, ну и надеюсь, что она будет всех радовать ещё долгое время. Конечно, ты уже упоминал, но какая встреча или разговор, связанный со Школой лингвистики, прям хорошо запомнилась?
- За всё время?
- Да.
- Хм… Это хороший вопрос, потому что у меня не получается придумать на него ответ. Ну, конечно, сейчас-то школа лингвистики — это моя повседневность абсолютно, поэтому никакой разговор не выделяется особо. И вспоминается что-то из ранних времён, типа с первого курса. Ну да. Ну окей, пусть это будет действительно разговор с Полиной Касьяновой на пикнике весной 2016 года про то, каково ей под руководством Юрия Александровича, как ей хорошо. Хотя это специфичный опыт. Я думаю, что на вопрос пространный она могла бы ответить про руководство Юрия Александровича, но исключительно положительно. Я прям помню, как у неё горели глаза и с каким вдохновением она говорила. И это именно те эмоции, которые дают мне очень много веры в Школу лингвистики и заставляют хотеть в неё вкладываться. Вот такой научный восторг от работы с коллегами.
Главное достижение
- Очень красиво. А вот что самое важное, что удалось достичь?
- В смысле, из того, что я достиг?
- Да.
- Наверное, сейчас для меня самое важное — это моя магистерская диссертация. Потому что она отдалась мне с огромным трудом, с одной стороны. С другой стороны, она получилась неплохо. Я ей действительно доволен и горжусь. И с третьей стороны, она положила начало диссертации, которую я пишу сейчас. И я до сих пор публикую кусочки той магистрской диссертации, уже сильно развитой, переписанной и так далее, в качестве статей уже для своей диссертации кандидатской. То есть это действительно такой мой научный труд, которым я продолжаю заниматься уже много лет. И он по-прежнему мне безумно интересен и оставляет много интересных вопросов. И уже большое количество работы сделано, и я как бы пожинаю её плоды.
- Это, конечно, очень мощно. И удачи, кстати, с кандидатской.
- Спасибо. Да, удача не помешает.
О будущем
- Мы в тебя все верим. А вообще, какие ещё нереализованные проекты или надежды у тебя есть? То есть что бы ты хотел сделать?
- Я хочу начать или продолжить заниматься русским. Потому что вот этого я не научился делать за все свои годы тут. И у нас была здоровская очень мастерская, где мы ставили эксперимент, посвященный семантике русских указательных местоимений. И потом она закончилась, и нас всех завалило. Студенток завалило их дипломами, им было не до того. Меня завалило всяким преподаванием и тому подобным. И вот это проект, к которому я хочу вернуться и который я хочу сделать. Потому что сейчас я ничем, кроме хантыйского, по сути научно не занимаюсь. Это как раз то, про что моя магистерская диссертация. И мне хочется, чтобы у меня было что-то ещё, какой-то ещё другой проект.
- Пусть у тебя всё это получится. И ждём твоих научных идей. Про результаты ещё рано говорить, чтобы не накаркать.
- Да, спасибо.
- У тебя есть идея, как будет меняться жизнь Школы лингвистики с тем, что у нас развиваются технологии?
- Вот я не знаю. Это сложный вопрос. То есть я представляю, что полевая работа может стать разнообразнее. Там условно появится какое-нибудь приложение, которое эквивалентно айтрекеру. Его можно будет поставить на телефон и просто проводить айтрекинг-эксперименты в поле щелчком пальцев [Прим. ред. — айтрекер через приложение уже стал реальностью].
- Да, это прикольно. Но надеюсь, что это будет только положительное, а не как всякие роботы в злом sci-fi.
- Ну да, положительные роботы.
Главные люди
- А вот теперь немножко возвращаемся к людям. Какие люди, на твой взгляд, оказали наибольшее влияние на нашу Школу лингвистики? С одной стороны, на неё, и на тебя.
- Ну, на Школу лингвистики это... На самом деле их очень много. То есть я начинаю вспоминать какие-то имена, и список всё продолжается, и продолжается, и продолжается. Вот среди наших преподавателей и среди людей из администрации, из учебного офиса, из менеджеров. Там тоже есть люди, которые сделали безумно много и продолжают делать безумно много. Я думаю, что очень сильно влияют Екатерина Владимировна и Юрий Александрович. В частности, потому что у них у каждого есть свой определённый подход: к людям, к работе, к общению с руководством. И в этом подходе очень много человечности, очень много такой заботы о людях в Школе лингвистики и готовности совершать великие дела за Школу лингвистики. И это в огромной степени создаёт ту замечательную атмосферу, которая у нас здесь есть, и обеспечивает возможность вообще делать все те вещи, которые мы делаем. И это, конечно, влияет. В смысле, я во многом смотрю на них как на ролевые модели того, каким надо быть руководителем. На меня очень сильно повлиял Лёша Козлов, благодаря которому я стал полевым лингвистом и формальным лингвистом на самом деле тоже. В частности, в его подходе к преподаванию и к общению со студентами. Потому что он очень много делает для того, чтобы выстроить контакт, настоящий такой человеческий контакт со своими студентами. И чтобы то, что происходит на парах его, было для них не впустую. И вот это очень важно. И я многому в преподавании научился у него. Ну и коллеги по лаборатории, которых я наблюдаю больше всяких остальных коллег. Мы много обсуждаем тут какие-то вещи типа, как реагировать на рецензии или как анализировать языковые данные. И это такой, конечно, бесконечный learning experience. У нас очень насыщенная научная жизнь, в которой постоянно есть какие-то новые лайфхаки или мудрости, которые я продолжаю и продолжаю впитывать и учиться им у своих коллег. И это здорово. Выделять никого больше не буду. Всех люблю.
- Это просто замечательно. Спасибо вообще всем нам, кто есть в нашей Школе лингвистики.
- Точно.
Театральные параллели
- А вот можешь ли ты сравнить с какими-то другими организациями, с которыми тебе приходилось иметь дело?
- В детстве я играл в театре Анюты Каждан. Это подруга моей мамы. И это была полная самоорганизация. Анюта придумывала, что мы будем ставить, делала всем какие-то суперизощрённые костюмы. Типа мы ставили стихи Хармса в какой-то момент. И там есть такое стихотворение. Не помню его, к сожалению. Как же там было? Что-то типа «Самовар Иван Иваныч». Но вот я не уверен. Мне кажется, я сейчас путаю Хармса с Маршаком. Ну, короче, какое-то стихотворение было у Хармса про самовар тоже. И Анюта сделала огромный такой самовар, который надевался на ребёнка, который был самоваром. Вот. И то, как там было всё организовано, мне Школу лингвистики во многом напоминает. Потому что это, с одной стороны, было чётко, очень продуманно, с умом и с душой. А с другой стороны, действительно по-доброму и на таких началах готовности вести диалог. Детский театр — это, конечно, совсем другое. Там 30 детей и пара взрослых. Но тем не менее. То есть это было весело и интересно всем, кто был в это вовлечён. В этом не было обязаловки, в этом не было насилия, в этом не было бессмысленного иерархического подчинения. И в Школе лингвистики я вижу то же самое, чем не могут похвастаться большинство других департаментов в разных университетах. Ну и это, конечно, уникальная штука, которая создаётся уникальными людьми. Поэтому, я думаю, этого так мало в целом. Потому что для этого нужны очень особые и очень правильные люди, которые будут это создавать.
- Это очень красиво звучит и очень, очень трогает. Я думала, сколько можно радоваться тому, что ты в Школе лингвистики, но сейчас я тебя слушаю и понимаю, что ещё не один потолок.
- Да, это точно.
Лингвистика в простых примерах
- И вот последний вопрос, который мне хочется задать, это как объяснить человеку, который вообще не связан с лингвистикой, что мы делаем, зачем это и… А вообще нужно ли объяснять внешним людям?
- Да, объяснять точно нужно. Во-первых, от этого зависит наше финансирование. И во-вторых, я думаю, что мы делаем безумно крутые и интересные вещи. И, конечно, если ты делаешь крутые и интересные вещи, нужно объяснять всем вокруг, потому что как они могут жить и не знать про эту крутизну и этот интерес. Но это сложно, потому что у нас нет хорошей лингвистики в школах, и люди не подготовлены к этому разговору. Я думаю, что нужно объяснять на простых примерах. Приводить простые примеры предложений из русского или английского и какой-то элементарный анализ проводить — и показывать людям что-то. Вроде: вот, у определенного артикля есть в английском пресупозиция известности. Это звучит абсолютно неясно. Скорее всего, человек потеряется уже на слове «артикль». Но если привести какой-то конкретный пример и сказать: «Ну вот, в ситуации, где как бы мы раньше не упоминали никакую собаку, сказать «The dog is hungry» странно. Почему странно?». Заставить человека немного задуматься. И я думаю, что вот так вот можно в разговоре за пять минут с человеком дать ему некоторую интуицию. Ну и дальше есть какие-то формулировки. Я не знаю, я не думаю, что у меня есть очень хорошее сказать, чем мы, собственно, таким занимаемся. Я думаю, что общее определение тут как раз не помогает, потому что оно неясное. Вроде, мы изучаем язык как природный объект. Типа, биологи изучают вот разные биологические виды, а мы изучаем разные языки таким же образом. Ну, может быть, я не знаю. Мне эта метафора не кажется чем-то таким, что поможет выстроить понимание. Ну да, ну вот я думаю, что если заходить с простеньких примеров и дать людям интуитивное ощущение, это верный путь к объяснению.
- Да, я согласна. И на этом, мне кажется, вопросы закончились. Спасибо тебе большое.
Cо Степаном (Стёпой) Михайловым беседовала Аня Куликова
- О ВЫШКЕ
- Цифры и факты
- Руководство и структура
- Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
- Преподаватели и сотрудники
- Корпуса и общежития
- Закупки
- Обращения граждан в НИУ ВШЭ
- Фонд целевого капитала
- Противодействие коррупции
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Сведения об образовательной организации
- Людям с ограниченными возможностями здоровья
- Единая платежная страница
- Работа в Вышке
- ОБРАЗОВАНИЕ
- Лицей
- Довузовская подготовка
- Олимпиады
- Прием в бакалавриат
- Вышка+
- Прием в магистратуру
- Аспирантура
- Дополнительное образование
- Центр развития карьеры
- Бизнес-инкубатор ВШЭ
- Образовательные партнерства
- Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
-
http://www.minobrnauki.gov.ru/
Министерство науки и высшего образования РФ
-
https://edu.gov.ru/
Министерство просвещения РФ
-
http://www.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование»
-
https://elearning.hse.ru/mooc
Массовые открытые онлайн-курсы
- © НИУ ВШЭ 1993–2026 Адреса и контакты Условия использования материалов Политика конфиденциальности Карта сайта
- Редактору