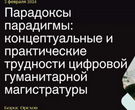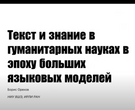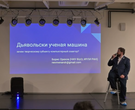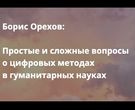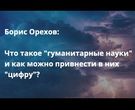- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Факультет гуманитарных наук
- Школа лингвистики
- Новости
- Истории Школы лингвистики. Интервью с Борисом Валерьевичем Ореховым
-
Школа
- О школе
- Сотрудники
- Семинары
-
Исследовательские подразделения
-
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Центр «Русский как иностранный»
- Центр цифровых гуманитарных исследований
- Центр языка и мозга
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория учебных корпусов
- Лаборатория теоретической и полевой фольклористики
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
-
-
Проекты
-
Проекты сотрудников
-
Проекты студентов и аспирантов
-
Завершённые проекты
- Некомпозициональные конструкции в эритажном русском
- Компьютерные и лингвистические ресурсы для поддержки шугнанского языка
- Лингвоспецифическая разметка китайских текстов в Русско-китайском параллельном корпусе НКРЯ
- Цифровой архив: создание корпуса журнала "Отечественные записки"
- Создание лингвокультурологического подкаста о России для иностранцев «Yellow Blue Bus» (Я люблю вас)
- База данных русских идиом
- Компьютерные и корпусные инструменты для иранистических исследований
- Русский разговорный клуб
- Шугнанские глаголы в типологическом освещении
- Создание академического онлайн-словаря персидского языка
-
- Международное сотрудничество
- Экспедиции
- Ресурсы
- Препринты
- Наша книжная полка
-
Образовательные программы
- Бакалаврская программа «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Лингвистическая теория и описание языка»
- Магистерская программа «Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур»
- Магистерская программа «Цифровые методы в гуманитарных науках»
- Аспирантская школа по филологическим наукам
Адрес: 105066, г. Москва,
Старая Басманная ул., д. 21/4
Телефон: +7 (495) 772-95-90 доб. 22734
E-mail: ling@hse.ru
Редакторы сайта — Наталья Борисовна Пименова, Максим Олегович Бажуков, Константин Евгеньевич Сатдаров
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
- Научно-учебная лаборатория учебных корпусов
- Центр «Русский как иностранный»
- Научно-учебные группы
- Каталог проектов по компьютерной лингвистике
- Проекты, поддерживаемые грантами
- Русский язык для всех
- Лингвистический кружок для школьников
- Лингвистика в Центре открытого образования
Школа лингвистики была образована в декабре 2014 года. Сотрудники школы преподают на образовательных программах по теоретической и компьютерной лингвистике в бакалавриате и магистратуре. Лингвистика, которой занимаются в школе, — это не только знание иностранных языков, но прежде всего наука о языке и о способах его моделирования. Научные группы школы занимаются исследованиями в области типологии, социолингвистики и ареальной лингвистики, корпусной лингвистики и лексикографии, древних языков и истории языка. Кроме того, в школе создаются лингвистические технологии и ресурсы: корпуса, обучающие тренажеры, словари и тезаурусы, технологии для электронного представления текстов культурного наследия.
В печати
Yerbolova A. S., Tomashchuk K., Kogan A. et al.
Complexity. 2026.
В печати
Lander Y., Bagirokova I., Lander A.
In bk.: Theoretical Issues in the Languages of the Caucasus. Amsterdam: John Benjamins, 2026.
arxiv.org. Computer Science. Cornell University, 2024

Истории Школы лингвистики. Интервью с Борисом Валерьевичем Ореховым

В Москву
— Расскажите о себе, как Вы начинали свою работу в Школе лингвистики и в каком качестве?
— Мои взаимоотношения с Вышкой и с тем, что мы сейчас называем Школой лингвистики, начались в 2013. О себе я не очень понимаю, что нужно или что уместно рассказать. Я родился, учился, работал до 30 лет в городе Уфа. Затем я приехал в Москву по такой стипендиальной программе, которая называлась Карамзинские стипендии. Она была ассоциирована с РАНХиГС и с отделом там, который назывался Центр гуманитарных исследований. Сейчас он не существует, но был преобразован в то, что сейчас называется ШАГИ, Школа актуальных гуманитарных исследований. Некоторые из людей, которые были так или иначе связаны с Центром гуманитарных исследований, решили перейти на работу в Высшую школу экономики. В частности, один из моих коллег собирался создать в Вышке специальную лабораторию под свои интересы, куда собирался привлечь меня. И поначалу казалось, что это хорошая идея, но потом со временем стало понятно, что бюрократия ее съела, и ничего такого не будет. Я уже как-то настроился работать в Вышке, а на самом деле как-то все не очень складывалось.
Встреча на бульваре
Я шел с занятия на Покровском бульваре. Мне кажется, что я, еще не работая в Вышке, уже вел какие-то занятия. Например, по истории литературы, что было для меня привычным. И вот я встретил на бульваре Екатерину Владимировну и рассказал ей о том, что все не очень складывается. Она решила, что, наверное, можно меня взять в то, что мы сейчас называем Школой лингвистики. Это, напоминаю, был 2013 год. У Екатерины Владимировны была тогда идея, что языки должны преподавать лингвисты. Обычно для того, чтобы преподавать практический язык, приглашается какой-нибудь человек, который умеет преподавать его или просто знает этот язык. И это не совсем то, что нам нужно. Нам нужно, чтобы язык подавался студентам через призму лингвистического знания. Поэтому нужно, чтобы лингвист разбирался в собственно лингвистике и чтобы при этом соответствующим образом был выстроен и курс практического языка. Я не был человеком, который хорошо знает какие-то языки настолько, чтобы их преподавать студентам. Студенты всегда лучше меня знают языки. Но я умел программировать. Программирование было большой и важной частью моей жизни, и в то время тоже, и у меня все-таки были какие-то знания, связанные с лингвистикой. Это Екатерина Владимировна знала еще до этого, поскольку мы познакомились в декабре 2010 года в связи с ее лексико-типологическими проектами. И вот так пришло к тому, что 1 марта 2013 года я оказался официально устроен в Высшую школу экономики и в дальнейшем всегда существовал вместе с лингвистами. Хотя, конечно, у меня нет специализированного лингвистического образования, и поэтому мое положение в этом сообществе было, если на это смотреть изнутри, моими глазами, шатким, но за эти 11 лет я ни разу не услышал от коллег никакого укора или намека на это.
Переезды
С тех пор я совершенно безотрывно в Высшей школе экономики работаю и переезжал с нашим лингвистическим направлением из всех корпусов. В 2013 году мы еще давали занятия на Покровке до ремонта. Это вообще доисторические времена, если такое вспомнить. Еще у нас были какие-то помещения в Хитровском переулке. И ходили мы на метро на Китай-город. Потом мы переехали на Рижскую, и только после этого мы оказались на Старой Басманной, где успешно существуем сейчас. Все эти переезды я помню.
«Большой взрыв» и создание материи Школы лингвистики
— Кто находился у истоков Школы?
— Истоки случились до меня. Я уже пришел, когда был второй набор на бакалавриат. Поэтому я не наблюдал именно сам момент «Большого взрыва». Я появился там через некоторое время после того, как материя уже стала существовать в пространстве и времени. С моей точки зрения со стороны это выглядело так, что главный человек, системообразующий в данном случае — это Екатерина Владимировна, а еще один системообразующий во всем этом — это Анастасия Александровна Бонч-Осмоловская. Кроме того, в Вышке уже работали Нина Роландовна Добрушина и Михаил Александрович Даниэль, которые тоже внесли большой вклад в то, как вообще в принципе выглядела у нас лингвистика, потому что лингвистика может выглядеть очень по-разному. И то, что она сформировалась именно такой, это заслуга конкретных людей с их концепциями и и виденьем. (Помимо того, что за этим есть некоторая традиция, идущая с ОТиПЛа и какие-то современные внешние соображения). Нина Роландовна и Михаил Александрович — безусловно, такие люди, которые это во многом определяли. Я бы сказал, что как раз Екатерина Владимировна, Анастасия Александровна, Михаил Александрович и Нина Роландовна стояли «у истоков», если использовать такое выражение.
В начале компьютерной лингвистики
— Говорят, что компьютерная лингвистика хорошо сформировалась именно в Вышке. Что могло этому способствовать?
— Со стороны человека, который, может быть, не все понимает о маркировании падежей, но зато может написать код — ведь именно таким образом я в свое время пригодился нашим технологическим проектам — это формирование, видимо, произошло до того, как я появился в Вышке. У меня нет такого впечатления, что у нас лингвистика есть, а в других местах всего этого нет. Просто в других местах была сильная теоретическая лингвистика (которой как раз не было у меня в качестве образования). Насколько я слышал эту историю — этого я не видел своими глазами, — когда формировалось представление о том, как нужно учить лингвистов сейчас, в 10-х годах XXI века, обсуждения велись между разными людьми, в том числе и теми, кто напрямую не работал с Вышкой конкретно, со Школой лингвистики. И я, например, слышал фамилию Сегаловича, это один из основателей Яндекса, с которым наши лингвисты в принципе давно были связаны. Сегалович много хорошего сделал для развития компьютерно-лингвистических продуктов, за пределами Яндекса в том числе. Как я знаю, Сегалович повлиял активно на то, что Яндекс взял в свое время под технологическое крыло Национальный корпус русского языка. Именно Сегалович, как мне рассказали, предложил или по крайней мере поддержал идею, что нужно учить лингвистов программировать на языке Python.
Тут еще есть такой нюанс, что в тот момент, когда мы договорились с Екатериной Владимировной, о том, что я буду преподавать Python, я еще не очень знал Python. Может быть, я писал на нем что-то небольшое, но так, чтобы всерьез программировать на Python, этого еще не случилось. Всерьез я погрузился в Python именно тогда, когда нужно было преподавать. Это была уже осень 2013 года, где-то примерно одновременно с преподаванием Python я его учил. Уже уверенно я себя почувствовал в кодинге на Python в феврале 2014 года. Тогда я участвовал в проекте совместном с университетом Ниццы. Я оказался дождливым, холодным февралем в Ницце. Обычно Ницца с летом ассоциируется, но там немножко другие были условия. Это не значит, что там было плохо, там было хорошо и в человеческом смысле, и можно было разное посмотреть и, например, съездить в Монако. Но помимо поездок в Монако и осмотра окрестностей и тех мест, в которых обычно любили отдыхать русские аристократы, я еще написал какую-то большую программу и написал существенно больше 100 строк, понял дзен этого языка и уже после этого с ним не расставался. И более того, даже отказался от тех языков, с которыми работал раньше. Прежде это были PHP и Perl. Perl я считал своим основным языком на тот момент, и с тех пор я на нем написал всего несколько строчек за эти 10 лет. Оказывается, Perl в общем не нужен. Вот что выяснилось. Но то, что нужно преподавать Python и вообще нужно учить программированию лингвистов, это, как выяснилось по прошествии этих лет, было очень правильной идеей. Я не знаю, предлагал ли это Сегалович или Сегалович предлагал именно Python учить, разбираясь в контексте языков программирования. Но, во-первых, это было очень правильно и вообще настраивало на некоторую дисциплину мышления. А во-вторых, конечно, это все произошло до меня. Само решение, что надо учить программировать лингвистов случилось до того, как я встретил судьбоносным образом на Покровском бульваре Екатерину Владимировну, я пришел, когда Python уже преподавался нескольким курсам. Очень большую помощь мне тогда оказал в адаптации к процессу преподавания Тимофей Александрович Архангельский, которому я очень благодарен и с которым мы до сих пор дружим. Хочу сказать, что это именно дружеские отношения. Он просто объяснял то, что не было понятно, если я спрашивал. Я мог не спросить, если считал, что всем понятно, кроме меня. Но если я спрашивал, он мне объяснял, как это все делается в Вышке. Во-первых. Во-вторых, он прислушивался ко мне, когда я предлагал какие-нибудь не такие, как привычно, задания. Потому что задания при преподавании Python людям, которые изначально не заточены на IT и математику — очень специфическая задача, которая во многом завязана именно на материал практики. Практика была — как-то клониться в сторону лингвистических данных, которые по ходу отыскивались, и придумывались задания для их обработки. Это была не такая простая история. Какой-то более ригидный человек на месте Тимофея Александровича мог бы со скепсисом смотреть на буйство нетрадиционных мыслей в этом отношении. А он, наоборот, позитивно это все воспринимал и поддерживал. Поэтому как бы ни появилась эта идея, она, конечно, была хороша.
Преподавание
— Какие курсы Вы вели?
— Было довольно много занятий, у нас было несколько потоков и групп. Поэтому у меня такое впечатление, что на тех ранних этапах для нагрузки хватало одного Python. Но я до этого ничего подобного не преподавал. Дело в том, что довольно существенную часть своей профессиональной жизни я преподавал историю литературы. Было очень непривычно, потому что преподавать историю литературы и программирование — это совершенно разные дидактически истории. Прежде всего тут разная мотивированность студентов, то есть трудно себе представить ситуацию, что я приду на занятие по Питону и мне студент скажет: «А зачем вы нас всему этому учите? Это нам никогда не пригодится в жизни». А так бывало с литературой. Во-первых. Во-вторых, гораздо более понятные критерии оценки знаний. Потому что с литературой не очень понятно. Я много лет преподавал историю литературы, мне уже 42 года, но я до сих пор не знаю, как понятно оценивать знания по таким предметам и таким курсам. С Python все проще. Программа работает или нет — это уже довольно понятный критерий оценки. Причем всем сторонам, всем акторам этого взаимодействия.
«Уже не маленький»
Иногда я задумывался о том, не стоит ли мне повести какой-нибудь предмет, который так или иначе соотносится с моим опытом. В свое время у нас было то, что называется курсом по выбору, и у меня был курс по стиховедению. Причем я его даже не сам придумал, а принял от Владимира Александровича Плунгяна. Сначала он читал курс, и было это еще на Рижской. А потом на следующий год ему стало уже, наверное, неудобно читать этот курс, у него очень много разных занятий. Тогда решили, что «может быть, Боря его почитает». Я помню, что Екатерина Владимировна, разговаривая по этому поводу со мной по телефону, обратилась к Владимиру Александровичу, который был рядом с ней, и спросила что-то вроде: «Сможет ли Боря прочесть такой курс?» На что Владимир Александрович задумчиво сказал, и я это услышал: «Ну, не маленький уже,» — дескать, сможет прочесть.
Но в целом, пока не стало развиваться направление, которое называется Digital Humanities, я не очень отвлекался от Python. Несколько лет, шесть — восемь, я его вел сначала только в бакалавриате, потом на бакалавриате и в магистратуре, потом только в магистратуре, и теперь я вовсе не веду ничего в бакалавриате. Так что стиховедение, Python и разные курсы, связанные с Digital Humanities. Последние были не только для наших лингвистов, студентов, но и для студентов других специальностей, в частности, тех, кого мы называем филологами, кого бы стоило назвать, наверное, литературоведами. Мои курсы в основном такие, но востребован я был в качестве преподавателя Python. Немножко забавно было: преподаватель Python – это что-то вроде такого учителя английского, со стороны если, то есть человек какой-то, видимо, недостаточной статусности. Я помню, что как-то встретил Максима Анисимовича Кронгауза, с которым тоже уже был знаком к тому времени, где-то в коридорах Вышки и ему радостно сказал, что я работаю в Вышке. «Что же вы тут преподаете?» — спросил меня Максим Анисимович. Я сказал, что я преподаю программирование. Максим Анисимович как-то опечалился, тень мелькнула на его лице, потому что он, видимо, считал, что это недостаточное раскрытие моего интеллектуального потенциала. Он думал обо мне хорошо, надеюсь, до сих пор думает, и сказал он что-то вроде: «Это правильное использование Вас? Катя Вас правильно использует таким образом?» Я совершенно уверенно сказал, что да. Потому что мне действительно очень много лет нравилось именно это по контрасту с преподаванием литературы, что просто тяжелее, потому что оценка знаний студента и мотивированность студентов совершенно разная.
— Какие у Вас были первые впечатления от преподавания?
— Впечатления были связаны не столько с самими курсами, сколько с потенциалом студентов. Важно не только то, что я раньше вел литературоведение, но и то, что я преподавал все-таки в провинциальных вузах в эпоху ЕГЭ. ЕГЭ позволяет центральным вузам пылесосить всех самых лучших студентов. Если ты сдал на некоторый высокий балл ЕГЭ, и поэтому это облегчает тебе дорогу в центральные, в столичные вузы, и поэтому разница уже очень чувствуется. Это не значит, что люди, которые в провинции учатся, хуже, это значит, что у них просто амбиции, скорее всего, меньше. И потенциал разного качества связан с этим тоже. Поэтому первое впечатление, это влюбленность, то, насколько увлеченными могут быть люди, которым дают делать то, что они хотят, и насколько они действительно сильные, соображающие. Может быть даже отчасти эта влюбленность была чрезмерной, поэтому я и называю ее влюбленностью, а не просто впечатлением или очарованием. Но то, что разница была очень значительная между тем, с чем я сталкивался в провинциальном вузе и здесь, в Высшей школьной экономики, это безусловно так.
Воспоминания о «золотом веке»
В начале, 10 лет назад или около того, было совершенно особенное ощущение, была особенная атмосфера в том, что происходило. Мне кажется, что это называется атмосферой стартапа, когда у вас есть небольшая, сильная, сплоченная команда единомышленников, которая делает что-то очень крутое, верит в это. Это не может не чувствоваться. Коллективы проживают какие-то циклы, не хочу сказать, что 10 лет для школы лингвистики – это старость, но, может быть, то самое первичное ощущение – не знаю, насколько со мной коллеги согласятся – сейчас, кажется, немножко ушло. Может быть, это, наоборот, хорошо. Не старость, но зрелость такая, мудрость.
Например, у нас была рассылка, она и сейчас есть, но по интонации тех писем, которые в эту рассылку присылаются, очень отличается от того, что было 10 лет назад. Это различие прежде всего в некоторой непосредственности. Эта рассылка с самого начала создавалась для обсуждения рабочих вопросов. Именно к этому она пришла сейчас. Сейчас, если нужно что-то сделать, кого-то о чем-то попросить или выяснить какой-то непонятный вопрос, в рассылку присылается соответствующее письмо. Это то, для чего она была всегда. Такие письма были и 10 лет назад. Но я бы сказал, что основной трафик в этой рассылке состоял не из таких писем, а из дружеских впечатлений, которыми хочется поделиться. Проходили какие-то дискуссии, которые не впрямую касались рабочих вопросов. Может быть, они отталкивались от ситуации рабочей, которая существовала вокруг, но это было не главное.
О взаимоотношениях
Вот это, мне кажется, называется стартап. Потому что сейчас у нас больше людей, круг задач шире, и, может быть, не все мы такие уж единомышленники, хотя между нами всеми хорошие человеческие взаимоотношения. И это важно подчеркнуть, потому что мы знаем, что так не везде. И это ощущение, конечно, давало какие-то дополнительные очки: оно мотивировало работать, ходить на работу, общаться с коллегами, которые все были высочайшего уровня. Это опять-таки большая разница с провинциальным вузом, где тоже есть вполне себе профессионалы своего дела, но в глубине души ты иногда можешь понять, что ну нет, ты все-таки выше по уровню. Может быть, никогда про это не скажешь, может, даже самому себе в этом не признаешься. Но в Школе лингвистики это не так. Каждый, кого вы можете назвать, лучше меня. И есть к чему стремиться благодаря этому.
Правоверная лингвистика и возникновение «ересей»
— Вы были одним из тех людей, которые стояли у истоков создания магистратуры Digital Humanities. Можете рассказать об этом?
— Хотелось бы, но не смогу я сказать, что Digital Humanities — это я. Все-таки нет. На самом деле, конечно, Digital Humanities — это Анастасия Александровна Бонч-Осмоловская.
Не знаю, как так получилось, что она увлеклась этим. Она замечательный лингвист, могла бы всю жизнь заниматься правоверной лингвистикой, true лингвистикой. А тут, значит, ее в какую-то ересь потянуло. Ну и хорошо: благодаря этому у нас есть много чего. У истоков магистратуры я, конечно, не стоял в прямом смысле, но в каком-то расширительном смысле, да, наверное, поскольку я давно занимался этой темой. Но, конечно, всю основную работу сделали, опять-таки, Анастасия Александровна и Данил Андреевич Скоринкин, который стал, собственно, первым руководителем магистратуры. Они сделали все самое сложное и страшное, за что я бы никогда не взялся: разговаривали с проректором, составляли планы, какие-то там писали бумажки: то есть то, к чему я органически не приспособлен. Код написать – пожалуйста, а вот бумажку – это уже гораздо сложнее. Мне сейчас нужно придумать формулировки для базы данных, и формулировки эти должны войти в некоторые договоры, и как вы думаете, сколько я уже дней с этим тяну? Если бы нужно было написать программу на Python, я думаю, что справился бы гораздо быстрее.
Литературоведение и «тайные лаборатории» программистов
И я этим всем увлекался давно. Я просто думал когда-то, что то, чем я занимаюсь, — литературоведение всякое, исследование текстов — что это все может быть какая-то просто чепуха, и что на самом деле есть какие-то умные люди, математики, программисты, которые уже сделали где-то там в своих тайных лабораториях искусственный интеллект, он уже на самом деле все знает. Надо только его спросить, а самому ничего делать не надо. Будучи уверен, что все так и есть, я стал изучать эту тему. Я в свое время даже писал Сегаловичу, просил у него программу MyStem, которая в тот момент еще не была открытой, для работы с какими-то вещами. С самых низов я стал осваивать эту тему, и попутно выяснилось, что нет, никакого такого высокоразумного искусственного интеллекта программисты не создали. Даже сейчас, когда у нас есть большие языковые модели, это не так. По крайней мере, даже если с помощью больших языковых моделей можно решать какие-то задачи и даже большой их круг, то понимать про литературу они по-прежнему ничего не могут. Они вообще не могут понимать, но про литературу у них это получается еще хуже, чем с другими сложными задачами, которые плохо даются компьютерам.
Первая статья по DH
Выясняя это, еще не зная, к чему приду, я освоил много разных штук, которые оказались очень полезными. В частности, они оказались полезными для моего трудоустройства, потому что если бы я остался литературоведом, то я бы сейчас не знаю, что бы делал. Скорее всего, я потерял бы работу в какой-то момент и ушел бы в другую область. Телефонами торговать, хотя вроде сейчас это вообще делают с помощью маркетплейсов. Так что сейчас бы, наверное, еще раз сменил работу. Короче говоря, это мне позволило остаться в науке. К тому моменту, когда Анастасия Александровна решила, что надо делать Digital Humanities, я уже умел довольно много. Свела нас тема наивной поэзии. Есть такой сайт «Стихи.ру», там есть много чего интересного. Авторы там непрофессиональные, пишут они довольно много, но это такой материал большой, который можно анализировать, только если у тебя есть программные инструменты в руках. Без этого ты не сможешь все прочесть, что на «Стихи.ру» опубликовано, а если ты не все прочел, то, может быть, ты чего-то не знаешь. И Анастасия Александровна еще в том самом Хитровском переулке, встретив меня однажды, спросила, правда ли я этим всем интересуюсь. Действительно, «Стихи.ру» я анализировал, еще живя в Уфе, и Анастасию Александровну тоже это интересовало. Мы объединили наши усилия и написали классическую статью про то, как устроена поэзия на «Стихах.ру».
Анастасия Александровна
С тех пор мы, к моему удовольствию, сотрудничали несколько раз, и надо сказать, что это непередаваемое интеллектуальное удовольствие, потому что у меня было много разных соавторов, и некоторые из них были полезными, некоторые – бесполезными, для некоторых был бесполезен я. Бесполезный соавтор — это такой соавтор, который знает и умеет то же, что и ты, и не больше. Так вот, с Анастасией Александровной никогда невозможно заранее предсказать, что придумает она. Это такой фонтан идей совершенно замечательных, до которых я бы никогда не додумался. И это потрясающе. Попутно Анастасия Александровна всегда мониторила, что происходит на Западе. Все про это знала всегда. У нее, например, есть прекрасная статья с обзором машинного обучения в лингвистике. Обзор от Анастасии Александровны – это всегда очень подробное, въедливое и эвристически ценное обследование поля. Выяснилось, что то, чем я занимался до этого, я не знал, что у этого есть название — как господин Журден не знал, что говорит прозой до того, как ему сказали — что это называется все Digital Humanities, и всем этим давно занимаются на Западе. И вот так произошел мэтч. Благодаря организационным усилиям Анастасии Александровны все это и выяснилось.
Спутники сore linguistics
Во всем этом есть какая-то несерьезность, потому что, конечно, Digital Humanities — это не нормальная лингвистика. То, что называют core, то есть нормальная лингвистика — это все-таки грамматическая семантика, фонетика, лексическая типология (Хотя, наверное, не все лингвисты согласятся насчет лексической типологии). Digital Humanities — это вообще какая-то ерунда: во-первых, никто не знает что это такое, а если и знают, то считают, что это исследование художественных текстов, что для лингвистов все-таки не самый привычный способ приобретения знания. Поэтому есть разные сомнения, и эти сомнения понимаю не только я. При этом надо сказать, что люди, которых нельзя упрекнуть в том, что они настоящие лингвисты, нас всегда поддерживали. Прежде всего Екатерина Владимировна, которая ни секунду не сомневалась, что Digital Humanities нам нужно. По крайней мере я таких сомнений ни в ее глазах, ни в ее голосе никогда не видел и слышал. Может быть, конечно, здесь применены какие-то особые гипнотические технологии со стороны Анастасии Александровны, не знаю. Но я никогда ни в чем таком Анастасию Александровну не уличил, поэтому я очень благодарен коллегам за то, что несмотря на такое инородное тело во всей этой конструкции, никто никогда нам никаких претензий не предъявлял и не пытался нас вынести за скобки. Мне кажется, что для нас это было хорошо и для наших отношений с коллегами настоящими лингвистами это тоже было хорошо, потому что мы отвечали тоже добротой и старались присоседиться правильным образом, никого не ущемляя и, наоборот, всех поддерживая. В какой-то момент, когда волна необходимости цифровизации накрыла всех, выяснилось, что у нас — у тех кто занимается Digital Humanities — есть какие-то навыки, которые пригодятся всем. Понятно, что в Digital Humanities много используются корпуса разных языков, а корпуса — это всегда главный продукт и главная опора, надежда (и все, что там про русский язык сказано в стихотворении в прозе Тургенева) для лингвистов. Я, впрочем, помню временв, когда еще нужно было рассказывать лингвистам, что такое корпус. Но в любом случае теперь это то самое место, та самая точка, где наши интересы сходятся. Digital Humanities, как мне кажется, невозможно без корпусов, а лингвистам корпуса очень нравится. И не случайно, что именно Анастасия Александровна много лет занималась как раз активным развитием Национального корпуса русского языка.
История Центра Digital Humanities
— У нас был центр Digital Humanities, который просуществовал совсем недолго. Что удалось достичь за время его существования?
— Если считать, что центр — это некоторая административная единица, то его не было никогда. Не было такой структуры, где был бы директор, который получал бы за это зарплату как директор, или секретарь или что-то, что бывает в таких центрах — было помещение. Но это немножко странно. Получается, что помещение дали такой структуре, которая не имеет официального статуса. Неформальным нашим лидером всегда считалась Анастасия Александровна, но она не получала за это зарплату как директор центра. А вот если считать, что центр — это не административная единица, а люди, то он и не прекращал своего существования. Он есть до сих пор. Это некоторое сообщество людей, единомышленников, людей, которые друг к другу хорошо относятся, что важно. Мы до сих пор существуем, общаемся, разговариваем друг с другом и делимся событиями и знаниями. Даже поздравляем с днем рождения друг друга. Так что был центр или не был — это зависит от угла зрения.
Когда-то центр появился как сообщество людей, которым хочется чем-то заняться. Есть такая шутка, Екатерина Владимировна что-нибудь советует и говорит: «Вам же все равно нечем заняться». Примерно так это было и с центром: были люди, у которых были некоторые скиллы, они могли что-то сделать полезное, но при этом не знали к чему вот эту свою большую мощь, которая скопилась внутри, применить. Выяснилось, что есть центр, где такие люди пригодятся, и там их мощь может иметь правильный выход. Там было несколько проектов больших, которые идут вовне. У нас считается, что то, что мы сами сделали это как-то не очень, это должны ценить другие, а вот то, что для внешнего пользователя создано, это супер. Например, была выставка к юбилею ГАХН, супертехнологическая. Сначала по поводу этой выставки и ее организации кто-то пришел ко мне, но потом выяснилось, что мне может быть ровно этот проект не так интересен, а вот есть центр, давайте, этим центр займется. И центр, действительно, занялся. К нам приходили разные люди, это был в прямом смысле центр, который собирал в себе разные силовые линии. Приходили люди, чтобы послушать, приходили люди, чтобы рассказать, и так осуществлялась наука, потому что наука — дело коллективное. И коллективность должна обеспечиваться такими начинаниями. Во-первых. Во-вторых, там были люди, которые были готовы, например, делать какие-то проекты. Было ощущение, что если появляется какая-то классная идея, то ты не останешься с ней один на один, только если захочешь, конечно, а если тебе нужна будет какая-то помощь, то будут люди, которые способны на многое. Из этого выросло много чего. Пожалуй, самый долгосрочный и долгоиграющий проект, который из этого вырос, это Толстой Digital. Это оцифровка текстов Толстого, правильная оцифровка, по всем стандартам сделанная, которая действительно получилась благодаря тому, что в процесс были вовлечены разные люди, прежде всего те, кто составлял костяк центра в свое время. Были, конечно, случаи привлечения рабочих рук студентов, которые может быть не ассоциировали себя с центром, но, тем менее подвиг их бессмертен. Это во-первых. А во-вторых, сам по себе этот проект послужил ролевой моделью для разных других. Так появились Chekhov Digital и Пушкин Цифровой. Они в чем-то пошли дальше Толстого, но должен быть кто-то, кто сломает лед и покажет что так можно, а потом можно уже придумывать что-то суперское сверх того, что было придумано изначально. Так что прежде всего я бы отметил эти два проекта. Плюс к тому, разные люди, которые к нам приходили со своими идеями, не просто о них рассказывали сообществу, но еще и могли получить поддержку. Среди них был отец Пантелеймон, который был увлечен цифровым исследованием разных богослужебных текстов. С ним мы тоже взаимодействовали, студенты помогали, и он, как я понимаю, существенно продвинулся в своей работе. Это не был человек, который вырос в нашей среде, он пришел со стороны, но тем не менее влился в это самое сообщество. Не так давно он вышел на связь и мы с ним обсуждали, как все-таки ставится ударение в слове «послушник». То есть сообщество не распалось ни официально, ни неофициально. Центра нет, но сообщество есть. Значит, и центр все-таки есть. Но центр, конечно, имеет имя. Имя это Анастасия. И даже отчество имеет — Александровна. Фамилия у этого центра — Бонч-Осмоловская. Конечно, все благодаря ее усилиям и благодаря мудрости, она понимает, что суть всего именно в организации сообщества и в том, что должен быть нетворкинг между людьми. Я вот, например, этого не понимал много лет, а сейчас может быть и понимаю, но ничего не делаю для того, чтобы поддержать эту инициативу. Анастасия Александровна упорно работала в этом направлении, вкладывалась много и силами, и временем, и своими личными средствами. И у нас все получилось. Знаете, есть мифологема земного Иерусалима и небесного Иерусалима. Как небесный Иерусалим наш центр существует.
Два корабля с большим плаванием
— «Системный Блокъ» — это тоже проект центра?
— Скорее нет, но совсем их разделять, конечно, нельзя. «Системный Блокъ» — это проект Даниила Андреевича Скоринкина и его соавтора Ильи Булгакова. В той мере, в какой Даниил Андреевич был вовлечен в деятельность центра и через это познал, что тут есть что-то интересное, вклад центра в это есть. Хотя я бы не преуменьшал собственно самой прозорливости и в целом зоркости интеллектуальной и культурной, журналистской самого Даниила Андреевича. Во-первых, Даниил Андреевич был ассоциировал с центром, и он придумал «Системный Блокъ». Я считаю, что все-таки это авторский проект, и вина центра в том, что «Системный Блокъ» появился, есть, но не очень большая. Но потом, когда «Системный Блокъ» стал расти и развиваться, люди, которые прошли через центр, внесли в этот проект довольно большой вклад как авторы. И не только как авторы: там есть своя менеджерская работа, есть программистская, дизайнерская работа. Кроме того, сейчас мы стараемся по мере сил преподавателей программы по Цифровым методам в гуманитарных науках поставлять авторов «Системному Блоку». Когда мы видим, что какая-то хорошая домашняя работа была проведена или что есть какой-то клевый доклад на семинаре, то мы сразу агитируем сделать из этого текст в «Системный Блокъ». Это не такая история, что был центр, из него выделился Даниил Андреевич, и появился «Системный Блокъ», который существует в каком-то автономном плавании. Как вы знаете, в 70-е годы были запущены Voyager-1 и Voyager-2, которые уже вылетели более-менее за пределы Солнечной системы. Они были запущены в разных направлениях. Оба вылетели за пределы Солнечной системы, но с разных сторон вылетели. Центр и сообщество вокруг центра с одной стороны, «Системный Блокъ» с другой стороны, это не как Voyager-1 и Voyager-2, которые летят в разных направлениях. Это по-прежнему сообщающиеся сосуды. Так в дальние походы раньше ходили эскадры кораблей. Был корабль основной и при нем был еще какой-нибудь корабль обеспечения, где находились топливо, например, дополнительный боезапас, если корабль военный, припасы продовольствия для команды. Они шли рядом друг с другом, и когда что-то важное кончалось на основном корабле, то с корабля обеспечения туда это перегружалось. И думается мне, что сообщество центра и «Системный Блокъ» скорее идут параллельными курсами и продолжают подпитывать друг друга, потому что кто-то безусловно пришел в наше сообщество, наткнувшись на «Системный Блокъ» или прочитав что-то в «Системном Блоке». Надо сказать, что сейчас «Системный Блокъ» вырос в авторитетного информационного актора, который оказывает влияние на совершенно неожиданных людей. Например, я беседовал с одним филологом, который в Санкт-Петербургском университете решил подать заявку на грант. В этом грантовом проекте должна была быть цифровая часть. Он пришел в научный отдел университета, чтобы показать какие-то свои наброски, а там ему и говорят: «Это очень хорошо, что вы написали, но это все не то. А как надо писать, вот смотрите есть такой сайт “Системный Блокъ”. Сходите туда, там почитайте, тогда вы все поймете». Можно сказать, что мы в широком смысле часть одной такой большой системы.
Publish or perish
— Чем вы занимаетесь сейчас в Вышке?
— Поскольку, как я уже сказал, мы больше не стартап, и у нас разрослись разные проекты, то Digital Humanities превратилась в самостоятельное направление, в рамках которого я занимаюсь тем, что учу студентов в магистратуре. И занимаюсь какими-то исследованиями, пишу статьи, книжки тоже (в основном в области Digital Humanities), хотя иногда мне кажется, что это какая-то слишком быстрая история. Если вспоминать даже не столько лингвистов, сколько лексикографов XIX века или начала XX века, то история про словарь всегда была очень длинной. Сколько делались словари? Словари делались десятки лет. Если ты не провел за своими карточками словарными 20 лет, то что твой словарь стоит? Скорее всего, что ничего, и вообще обращать на него внимание не нужно. Мне кажется, что исследования, которые мне приходится делать для того, чтобы выжить в ситуации publish or perish, это исследования слишком быстрые. Мне порой хочется как-то немножко затормозить время, все отбросить и заниматься чем-то только одним и, например, проанализировать что-то без всякого цифрового метода, а просто используя мои возможности как человека, который умеет внимательно читать текст и делать выводы. У меня есть подкаст, который называется «Лига Айвы». Он посвящен университетам. Там я как раз беседовал однажды с историком, то есть человеком другой специальности, которая сказала, что по ее мнению нужно штрафовать людей, которые пишут больше одной статьи в год. Потому что если у тебя есть только одна статья в год, ты в нее выложишь все, что можно. Если ты пишешь больше статей в год, то тогда не очень понятно, что за качество в этих статьях у тебя будет. Может быть, это не вполне настоящее исследование. У меня были годы, когда я выпускал по восемь статей. Что это? Куда это годится? Нет, надо серьезнее. Поэтому занимаюсь я, к сожалению, тем, чем вынужден заниматься в силу разных жизненных обстоятельств, но хотел бы я заниматься настоящей лингвистикой на самом деле. Насмотревшись на прекрасных специалистов вокруг, хочется следовать их примеру. Анастасия Александрова успела до того, как заняться чёрти чем, написать диссертацию про датив. А у меня, как я считаю, нет серьезных лингвистических работ. И хочется еще успеть что-то такое сделать хорошее, не просто абы какое, не для галочки, а прям хорошую лингвистическую работу еще написать. Я пока думаю какая тема это может быть. Скорее всего, зная мой непоседливый характер, это будет что такое, как у Караваджо на картинах: с какой-то червоточинкой. Может быть, про причастие будущего времени в русском языке. То есть что-то такое, чего не существует. Хотя на самом деле, конечно, нужно смириться с тем, что надо заниматься нормальным материалом. Но этот момент пока еще не наступил. Пока еще я не написал все свои статьи и книжки по Digital Humanities. Но если представить себе ситуацию, что это как-то закончится, то лингвистика, надеюсь, что для меня еще останется.
Про будущее
— Какие у Вас есть надежды о том, как Школа будет развиваться в будущем? Какие проекты будут развиваться?
— Я про это ничего не знаю. У меня совершенно нет стратегического мышления, я в этом смысле консерватор: мне кажется, что если сохраняется то, что достигнуто, то это уже очень здорово. Это неправильно, конечно, жизнь так не устроена. Такие негибкие системы быстро разрушаются под давлением внешних обстоятельств. Но мне настолько нравится то, что есть сейчас, что больше ничего и не нужно. Мне кажется, что все проекты, которые нужно, уже запущены и идут в будущее. Хотя на самом деле, я не прав, конечно, потому что можно сделать еще десятки прекрасных проектов, которые нас прославят, но я не умею думать в таких категориях. Для меня важна преемственность, когда есть люди, которые могут передать ту систему ценностей, которую исповедовали мы вначале, те знания или даже скорее систему знаний, системное наполнение знаний, которое было вначале. По-моему, это здорово. К сожалению, сейчас у нас не работает Михаил Александрович, но работают его замечательные ученики, которые помнят его занятия и являются носителями всего того, о чём я сказал. И сама по себе преемственность в этом смысле мне кажется такой непреходящей ценностью, которую нужно сохранять. Этим же мы стараемся заниматься и на программе по Digital Humanities, которая менялась за эти годы, но кажется, то основное, что в ней было заложено изначально, сохраняется.
— Были какие-то неформальные мероприятия, которые вам запомнились?
Мечта об экспедициях
— Я знаю, что для коллег, которые ездят в экспедиции, были важные экспедиционные вечера, где осенью рассказывали про то, как они куда-то съездили. Я бы был счастлив присоединиться к этому сообществу, но так сложилось все в моей жизни, что я никогда не ездил в экспедиции: ни в фольклорные, ни в лингвистические. Хотя уже почти на самом деле поехал. Я готовился к тому, чтобы поехать в село Шамардан Глазовского района Удмуртской, чуть не сказал АССР, но в ответственный момент заболел, и экспедиция уехала без меня.
Новые года
Самое главное, что у нас было несколько лет подряд — Новые года. Это было в десятых, когда еще нас было мало и когда я был знаком со всеми студентами. Когда я перестал быть преподавателем на бакалавриате, эта привилегия исчезла. Сейчас я уже не знаю не только по лицам большинство студентов, но даже и по фамилии. А когда-то все фамилии были на слуху, они были наполнены каким-то ассоциативным содержанием, и когда это прекратилось, то я перестал ходить на Новые года, но когда-то они были важным событием. Там действительно царила праздничная атмосфера, студенты что-то придумывали, мы что-то придумывали. Мы с Татьяной Исидоровной Резниковой однажды пели песню, посвященную Дарье Александровне Рыжовой. Мы эту песню несколько недель репетировали, причем пел почему-то я, совершенно не имея никакого голоса, а Таня просто умеет играть на музыкальных инструментах. Главное то, что очень было сложно сделать так, чтобы песня прозвучала в присутствии Дарья Александровны, потому что у Дарьи Александровны было очень много дел: нужно было ее всеми правдами и неправдами заманить в аудиторию, где проходил праздник. Там был непрекращающийся концерт, много кто пел песни, что-то еще делал, показывал, но нужно было подгадать так, чтобы и Дарья Александровна оказалось там, и был свободный слот для выступления. Это, кажется, был Новый год, хотя я что-то не уверен сейчас. Может быть, у меня смешались разные мероприятия в памяти, но как бы там ни было, даже если я ошибаюсь, то ассоциируется прежде всего именно с Новым годом всё праздничное, что было.
Зализняк на Новый год
Однажды к нам на Новый год приходил Зализняк. Мне кажется, он вместе с Падучевой там был. Я пытался его исподтишка сфоткать, фотка была совсем размытой, мне кажется, что Зализняка там не видно. Но пока я жив, я обладаю знанием что на этой фотке вот это вот слепое пятно это на самом деле Андрей Анатольевич Зализняк. Это было действительно событие. Во-первых, это было событие для нас. Во-вторых, учитывая, что туда пришел Зализняк, это, наверное, было событие в целом для лингвистической Москвы. Не то чтобы все важные лингвисты к нам приходили. Новые года — это было прямо знаковое событие, но до того момента, пока нас не стало слишком много.
Центр силы
— Какие гости еще приезжали в Школу лингвистики?
— Очень большая часть лекций произошла до того момента, как я поступил на службу в Школу лингвистики. Они записывались на видео, и каким-то образом эти видео оказались у меня. Я даже не уверен, что они еще у кого-то есть, кроме меня, но надеюсь, что есть и про них кто-то знает. Например, Татьяна Владимировна Черниговская давала лекцию. Много было разных гостей из-за границы, которые читали лекции на иностранных языках. Я думаю, что многие до сих пор вспоминают с благодарностью курс, который читала Барбара Парти. Кажется, это был 2014 год, потому что все происходило на Рижской. Совершенно разные гости. Но всегда Школа лингвистики была таким не окном в Европу, а некоторым центром лингвистики, открытым всему миру. И не случайно поэтому действительно было много гостей из-за границы, потому что эти самые гости осуществляли некоторый обмен не обязательно знаниями, а именно взглядами, каким-то элементами мировоззрения, таким, что всегда важно. Благодаря им можно было придя в Школу лингвистики сделать такой замер всего, что происходит в лингвистике во всем мире. Градусник поставить. Ага, температура 36,6. Нормально. Лингвистика жива. Кажется, что в таких масштабах этого не было в других местах. Когда-то такого рода центром с другими настроениями, с другой тональностью был Институт лингвистики в РГГУ. В какие-то моменты, наверное -- я имею в виду постсоветское время, -- таким центром был ОТиПЛ, но сейчас кажется, что даже ОТиПЛ в конкуренции за привлечение лингвистического внимания к себе несколько Вышке проиграл, и это было отрефлексировано научным лингвистическим сообществом. В какой-то момент академик Владимир Александрович Плунгян сказал мне, что он чувствует, как центр лингвистической жизни смещается в сторону Вышки и что именно здесь происходит все самое важное. Поэтому гостей было много. Но не только у лингвистов. Ровно так же действовал и центр Цифровых гуманитарных исследований, потому что там тоже было много гостей, которые знали разные языки, были гости русскоязычные, которые читали доклады на русском языке, были гости из-за границы, которые не знают русского языка, но при этом готовы с нами чем-то делиться. В общем, эта ролевая модель и на малые формы всегда тоже распространялась. Вот такой центр силы.
С Борисом Валерьевичем беседовала Ирина Мусаева
- О ВЫШКЕ
- Цифры и факты
- Руководство и структура
- Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
- Преподаватели и сотрудники
- Корпуса и общежития
- Закупки
- Обращения граждан в НИУ ВШЭ
- Фонд целевого капитала
- Противодействие коррупции
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Сведения об образовательной организации
- Людям с ограниченными возможностями здоровья
- Единая платежная страница
- Работа в Вышке
- ОБРАЗОВАНИЕ
- Лицей
- Довузовская подготовка
- Олимпиады
- Прием в бакалавриат
- Вышка+
- Прием в магистратуру
- Аспирантура
- Дополнительное образование
- Центр развития карьеры
- Бизнес-инкубатор ВШЭ
- Образовательные партнерства
- Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
-
http://www.minobrnauki.gov.ru/
Министерство науки и высшего образования РФ
-
https://edu.gov.ru/
Министерство просвещения РФ
-
http://www.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование»
-
https://elearning.hse.ru/mooc
Массовые открытые онлайн-курсы
- © НИУ ВШЭ 1993–2026 Адреса и контакты Условия использования материалов Политика конфиденциальности Карта сайта
- Редактору