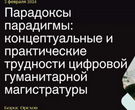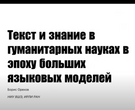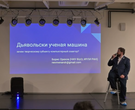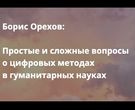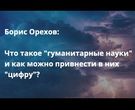- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Факультет гуманитарных наук
- Школа лингвистики
- Новости
- Истории Школы лингвистики. Интервью с Екатериной Леонидовной Шнитке
-
Школа
- О школе
- Сотрудники
- Семинары
-
Исследовательские подразделения
-
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Центр «Русский как иностранный»
- Центр цифровых гуманитарных исследований
- Центр языка и мозга
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория учебных корпусов
- Лаборатория теоретической и полевой фольклористики
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
-
-
Проекты
-
Проекты сотрудников
-
Проекты студентов и аспирантов
-
Завершённые проекты
- Некомпозициональные конструкции в эритажном русском
- Компьютерные и лингвистические ресурсы для поддержки шугнанского языка
- Лингвоспецифическая разметка китайских текстов в Русско-китайском параллельном корпусе НКРЯ
- Цифровой архив: создание корпуса журнала "Отечественные записки"
- Создание лингвокультурологического подкаста о России для иностранцев «Yellow Blue Bus» (Я люблю вас)
- База данных русских идиом
- Компьютерные и корпусные инструменты для иранистических исследований
- Русский разговорный клуб
- Шугнанские глаголы в типологическом освещении
- Создание академического онлайн-словаря персидского языка
-
- Международное сотрудничество
- Экспедиции
- Ресурсы
- Препринты
- Наша книжная полка
-
Образовательные программы
- Бакалаврская программа «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Лингвистическая теория и описание языка»
- Магистерская программа «Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур»
- Магистерская программа «Цифровые методы в гуманитарных науках»
- Аспирантская школа по филологическим наукам
Адрес: 105066, г. Москва,
Старая Басманная ул., д. 21/4
Телефон: +7 (495) 772-95-90 доб. 22734
E-mail: ling@hse.ru
Редакторы сайта — Наталья Борисовна Пименова, Максим Олегович Бажуков, Константин Евгеньевич Сатдаров
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
- Научно-учебная лаборатория учебных корпусов
- Центр «Русский как иностранный»
- Научно-учебные группы
- Каталог проектов по компьютерной лингвистике
- Проекты, поддерживаемые грантами
- Русский язык для всех
- Лингвистический кружок для школьников
- Лингвистика в Центре открытого образования
Школа лингвистики была образована в декабре 2014 года. Сотрудники школы преподают на образовательных программах по теоретической и компьютерной лингвистике в бакалавриате и магистратуре. Лингвистика, которой занимаются в школе, — это не только знание иностранных языков, но прежде всего наука о языке и о способах его моделирования. Научные группы школы занимаются исследованиями в области типологии, социолингвистики и ареальной лингвистики, корпусной лингвистики и лексикографии, древних языков и истории языка. Кроме того, в школе создаются лингвистические технологии и ресурсы: корпуса, обучающие тренажеры, словари и тезаурусы, технологии для электронного представления текстов культурного наследия.
Падалка П. В., Рыжова Д. А., Чистякова Д. Г.
Вопросы языкознания. 2026. № 1. С. 40-48.
In bk.: Экспериментальные исследования языка: материалы конференции 2025. M.: 2025. P. 20-22.
arxiv.org. Computer Science. Cornell University, 2024

Истории Школы лингвистики. Интервью с Екатериной Леонидовной Шнитке

От Иерусалима и Лос-Анджелеса до Школы лингвистики. Первый будущий коллега
— Расскажите, как Вы пришли в школу лингвистики, в лингвистику в целом. Чем занимаетесь сейчас?
— Когда я начала заниматься лингвистикой? Примерно… примерно давно. Я училась в Иерусалимском университете на двух отделениях: на лингвистике и на славистике. Потом я училась в UCLA, в Лос-Анджелесе. И там я уже училась на славистике, но тоже на лингвистическом направлении. А на лингвистике я слушала курсы, и у меня были какие-то консультанты и оппоненты. Тогда я занималась референцией в русском языке XVII века по переписке соловецких монахов: oна интересна тем, что там об одних и тех же событиях рассказывается с разных точек зрения.
Как я пришла в школу лингвистики? Тут есть короткий ответ и длинный ответ. Если коротко, то так получилось, что Лос-Анджелес оказался “рассадником” будущей Школы филологии. Там были две конкурирующих фирмы: UCLA и USC. И вот оттуда вышел цвет Школы тогда еще филологии, а через них в ней оказалась и я — в 2013 году.
— Кто был первым человеком, связанным со Школой лингвистики, с которым Вы познакомились?
— Конкретно со Школой лингвистики — это была Люша Апресян, Валентина Юрьевна. Она как раз училась в USC. Но и UCLA тоже внес свой вклад, включая будущих руководителей Школы филологии и магистратуры Creative Writing. Но тогда ни Школы филологии, ни тем более Школы лингвистики еще не было и в помине. Это все было сто лет назад, в прошлом веке.
Развод филологии и лингвистики
— Получается, Вы начали работать в Вышке, когда это была еще не школа лингвистики, а школа филологии. Может быть, Вы помните, как произошло это разделение?
— Я не была в курсе закулисья, но, по-моему, все довольно мирно происходило. Тогда филологическим направлением руководил А.Осповат, а лингвистическим – Екатерина Владимировна. Помню, например, они как-то на бегу встретились, и ЕВ говорит: “Так, нам надо еще обсудить детали развода!”
РКИ как лингвистика усвоения языка. Аншлаг в магистратуру
— Вы в Вышку пришли сразу преподавать?
— Первые два года я была, как бы, иностранным специалистом. Тогда в Вышке был такой тренд. А потом через два года в штат перешла. От меня ожидали всяческой РКИшности. И я стала вести методику преподавания РКИ, и сам РКИ тоже. Еще было академическое письмо по-английски, тогда оно было обязательным предметом.
Кажется, это все, первые два года я мало преподавала. А потом образовалась магистратрура РКИ, и там уже добавились курсы по лингвистике: семантика, эритажный язык. Тогда еще были прагматика и анализ дискурса, потом они как-то отпали. Идея была в том, чтобы это был РКИ, как бы это сказать, без “советского наследия” и чтобы это была лингвистика усвоения языка. И сразу уже на первых курсах был аншлаг, очень много заявлений, было из кого выбирать.
Театральный роман
— Что самое необычное Вы делали в рамках деятельности, связанной со школой лингвистики?
— Ну, вот у нас с Анной Леонидовной (прим.: Леонтьевой) был театральный курс по РКИ, где мы ставили со студентами спектакли.
— Это был какой-то Ваш авторский курс? Расскажите про него подробнее.
— Во-первых, он был рассчитан на разные уровни. Имелось в виду, что каждый берет столько, сколько может унести. Это было очень здорово. Мы решили ставить “Два клена” Шварца и сначала просто играли с фольклором, а потом постепенно стали работать с текстом. Но тут у нас начались события. Наша первая труппа развалилась буквально в несколько недель. В общем, все стало стремительно схлопываться.
— А Вы помните, как пришла идея создать такой курс?
— Вообще, эта идея использовать всякие театральные штуки для обучения иностранному языку у меня всегда была. Это раскрепощает, снимает так называемые “аффективные фильтры”. У меня был курс “Русский через призму литературы, кино и драмы”. И там я использовала, какие-то импровизации, актерские техники, вот это вот всё.
А потом я познакомилась с такой Юлией Немировской из Орегонского университета, и оказалось, что она ставит студенческие спектакли уже чуть ли не 20 лет. Там у них начиналось это как просто “русский через”, а потом переросло в настоящий театр, с фанатами, премьерами, освещением в прессе и т.д.. Это стало культурным событием в их городе. И вот я зазвала Юлю к нам на мастер-класс и очень воодушевилась им. Я и раньше ставила спектакли с детьми эритажниками, и мне этого очень не хватало. А тут и Анна Леонидовна (прим.: Леонтьева) тоже очень загорелась этим делом. И мы с ней были такие Станиславский с Немировичем-Данченко. Буквально как в “Театральном романе”. Мне в какой-то момент пришлось уйти на дистант, и вот Аня, как Иван Васильевич, с актерами, а я, как Аристарх Платоныч, — “телом в Калькутте, душою с вами”.
— Вам бы хотелось его ещё как-то возродить, этот курс?
— Ну, там много сложностей. Первый раз у нас просто аншлаг был невероятный. К нам пришло больше 20 человек в группу, и мы там навели такой строжак, чтобы поответственнее относились: пропускать нельзя, опаздывать нельзя, роли учить 24 часа в сутки (это нас Юля научила). И все ходили, не пропускали, да еще и радовались, как им повезло. А потом все уехали в свои Германии, Италии, Франции, Голландии, и в результате нам пришлось набирать актёров буквально за месяц до окончания курса, потому что просто всё разваливалось. И мы уже поняли, что не успеваем, и тогда пришла идея снять фильм вместо спектакля. Зато теперь можно его пересматривать, с попкорном. Так что нет худа без добра.
На второй год худо-бедно тоже набралось некоторое количество студентов, пришли ещё старые наши актеры, это вообще с этими группами известная история. Там такой костяк набирается, который ходит уже не за кредиты, а за красивые глаза. Да, и я забыла сказать, что под это дело мы организовали ПИС (прим.: проектно-исследовательский семинар). У нас были прекрасные ассистенты (многих из них мы тоже потеряли).
Другие игры
— Расскажите про другие начинания, или что Вам удалось ещё сделать такого интересного, необычного за время работы в Школе лингвистики?
— Этот театр мы заменили другими играми. Это как раз конек Анны Леонидовны – использование аутентичных игр. Мы тогда решили создать какой-то такой пул этих игр в рамках ПИСа, и в результате надеемся набрать группу по коррекционной грамматике, может быть, уже в этом году. Кстати, очень удачный семинар получился, у нас были очень хорошие “прожектёры”. Мы продолжаем в этом году.
Ещё у нас был такой проект, не знаю, застали ли вы его, по кино, как песня (речь идёт о проектно-исследовательском семинаре “ЩаСпою”, в рамках которого участники готовят учебные материалы по РКИ по текстам песен — Прим. ред.). Тоже ПИС. Мы выбирали фильмы и готовили к ним всякие материалы в Степике. У нас много всего накопилось, но, к сожалению, не довели до ума это.
— С песнями у них вроде сейчас хорошо пошло.
— Да, очень хорошо. Но мы-то замахнулись на большие жанры. Мне хотелось разработать специальный формат для самостоятельной работы с фильмами. Почти получилось. Но я все еще надеюсь довести это до какого-то приличного вида.
— Что Вы считаете самым важным из того, чего вам удалось достичь в рамках ШЛ? Чем Вы больше всего гордитесь?
— Это не моя тема. Даже не знаю.
Пандемийная тема
— А вот, кстати, вы хотели спросить про ковид. А он сыграл некоторую роль в моих достижениях. Именно благодаря ковиду и сэкономленному на дороге времени я сделала нашу методику в формате перевернутого класса. И тем самым, мне кажется, я сэкономила немало времени на более практические занятия. Это, пожалуй, можно записать в графу достижений.
Интересно, сначала казалось, что дистанционно вообще будет невозможно работать, особенно преподавать язык. Но со временем я даже приобрела вкус к этому. И даже какие-то форматы мне казались более удачными в таком модусе. Даже, когда это всё закончилось, честно говоря, было как-то неохота возвращаться. Но, на самом деле, как только попадаешь в аудиторию, понимаешь, насколько это более эффективно, насколько это более живо. И даже то, что, мне казалось, так удачно получилось в зуме, в каком-то смысле удалось перенести в аудиторию. Так что я всё-таки за аудиторию. За живых людей, а не квадратики.
Страна Касталия
— Какие люди оказали на Ваш взгляд наибольшее влияние на облик ШЛ и на Вас, как на её сотрудника и как на лингвиста?
— Конечно, отцы-и-матери-основатели. Конечно, Екатерина Владимировна. Сам стиль ее руководства - оптимистичный, веселый, задорный, я бы сказала. Идеальный начальник, по-моему. Никакого формализма, никакого “начальствования”. При этом удивительно умеет все организовать. Крепость вокруг школы, которая ограждает тебя от всего внешнего. А нам остается только спокойно заниматься своим делом в стране Касталии.
— Наблюдаете ли вы какое-то отличие ШЛ от тех мест, где Вы работали до неё?
— Ну, наверное, в атмосфере любви, дружелюбия, неформальности. Вот это отличает, наверное, от других мест.
Студенты
— А можете ли Вы отличить студентов, которые приходят учиться в школу лингвистики, от студентов в других местах?
— Студенты разные, но те, кто заинтересован, действительно имеют возможность заниматься настоящей наукой. И это начинается практически сразу: курсовые, НИСы, лаборатории. Я могу сравнить с американскими университетами. Мне кажется, там не ожидается от студентов бакалавриата оригинальных исследований. И экспедиций таких нет налаженных. А здесь настоящая профессиональная деятельность уже на самых ранних этапах. И это, конечно, прекрасно!
«Во-первых, это красиво»
— Последний вопрос: как объяснить человеку, никак не связанному с лингвистикой, чем мы тут занимаемся?
— Мы тут занимаемся … языком. То есть тем, как он устроен, как работает, как используется, как развивается, как усваивается. И как всё это смоделировать, при помощи технологий или научного аппарата. Наверное, этим мы занимаемся
— А почему это важно?
— Ну, во-первых, это красиво. Но человеку, не имеющему никакого отношения к лингвистике, это легко теперь объяснить, потому что очевидно практическое применение лингвистики. Это и распознавание речи, и ИИ: Сири, Алиса, и автоматические переводчики, и обработка текстов. Вот для этого всего надо знать, как язык устроен, как он работает и т.д. Ну, а с философской точки зрения: язык действительно настолько неотделим от человека как вида и отличает его от других видов. Разбираясь в том, как устроен язык, понимаешь во многом и про человека.
С Екатериной Леонидовной беседовала Полина Леонова
Осповат Александр Львович
- О ВЫШКЕ
- Цифры и факты
- Руководство и структура
- Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
- Преподаватели и сотрудники
- Корпуса и общежития
- Закупки
- Обращения граждан в НИУ ВШЭ
- Фонд целевого капитала
- Противодействие коррупции
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Сведения об образовательной организации
- Людям с ограниченными возможностями здоровья
- Единая платежная страница
- Работа в Вышке
- ОБРАЗОВАНИЕ
- Лицей
- Довузовская подготовка
- Олимпиады
- Прием в бакалавриат
- Вышка+
- Прием в магистратуру
- Аспирантура
- Дополнительное образование
- Центр развития карьеры
- Бизнес-инкубатор ВШЭ
- Образовательные партнерства
- Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
-
http://www.minobrnauki.gov.ru/
Министерство науки и высшего образования РФ
-
https://edu.gov.ru/
Министерство просвещения РФ
-
http://www.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование»
-
https://elearning.hse.ru/mooc
Массовые открытые онлайн-курсы
- © НИУ ВШЭ 1993–2026 Адреса и контакты Условия использования материалов Политика конфиденциальности Карта сайта
- Редактору