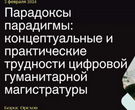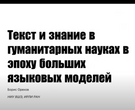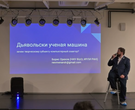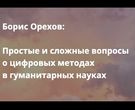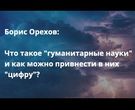- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Факультет гуманитарных наук
- Школа лингвистики
- Новости
- Истории Школы лингвистики. Интервью с Ольгой Николаевной Ляшевской
-
Школа
- О школе
- Сотрудники
- Семинары
-
Исследовательские подразделения
-
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Центр «Русский как иностранный»
- Центр цифровых гуманитарных исследований
- Центр языка и мозга
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория учебных корпусов
- Лаборатория теоретической и полевой фольклористики
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
-
-
Проекты
-
Проекты сотрудников
-
Проекты студентов и аспирантов
-
Завершённые проекты
- Некомпозициональные конструкции в эритажном русском
- Компьютерные и лингвистические ресурсы для поддержки шугнанского языка
- Лингвоспецифическая разметка китайских текстов в Русско-китайском параллельном корпусе НКРЯ
- Цифровой архив: создание корпуса журнала "Отечественные записки"
- Создание лингвокультурологического подкаста о России для иностранцев «Yellow Blue Bus» (Я люблю вас)
- База данных русских идиом
- Компьютерные и корпусные инструменты для иранистических исследований
- Русский разговорный клуб
- Шугнанские глаголы в типологическом освещении
- Создание академического онлайн-словаря персидского языка
-
- Международное сотрудничество
- Экспедиции
- Ресурсы
- Препринты
- Наша книжная полка
-
Образовательные программы
- Бакалаврская программа «Фундаментальная и компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Компьютерная лингвистика»
- Магистерская программа «Лингвистическая теория и описание языка»
- Магистерская программа «Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур»
- Магистерская программа «Цифровые методы в гуманитарных науках»
- Аспирантская школа по филологическим наукам
Адрес: 105066, г. Москва,
Старая Басманная ул., д. 21/4
Телефон: +7 (495) 772-95-90 доб. 22734
E-mail: ling@hse.ru
Редакторы сайта — Наталья Борисовна Пименова, Максим Олегович Бажуков, Константин Евгеньевич Сатдаров
- Международная лаборатория языковой конвергенции
- Лаборатория «Корпусные исследования»
- Лаборатория по формальным моделям в лингвистике
- Лаборатория языков Кавказа
- Лаборатория социогуманитарных исследований Севера и Арктики
- Научно-учебная лаборатория учебных корпусов
- Центр «Русский как иностранный»
- Научно-учебные группы
- Каталог проектов по компьютерной лингвистике
- Проекты, поддерживаемые грантами
- Русский язык для всех
- Лингвистический кружок для школьников
- Лингвистика в Центре открытого образования
Школа лингвистики была образована в декабре 2014 года. Сотрудники школы преподают на образовательных программах по теоретической и компьютерной лингвистике в бакалавриате и магистратуре. Лингвистика, которой занимаются в школе, — это не только знание иностранных языков, но прежде всего наука о языке и о способах его моделирования. Научные группы школы занимаются исследованиями в области типологии, социолингвистики и ареальной лингвистики, корпусной лингвистики и лексикографии, древних языков и истории языка. Кроме того, в школе создаются лингвистические технологии и ресурсы: корпуса, обучающие тренажеры, словари и тезаурусы, технологии для электронного представления текстов культурного наследия.
В печати
Nasledskova P., Netkachev I.
Studies in Language. 2026. P. 1-44.
В печати
Lander Y., Bagirokova I., Lander A.
In bk.: Theoretical Issues in the Languages of the Caucasus. Amsterdam: John Benjamins, 2026.
arxiv.org. Computer Science. Cornell University, 2024

Истории Школы лингвистики. Интервью с Ольгой Николаевной Ляшевской

— Как вы начинали работать в Высшей школе экономики, в каком качестве?
— Начала я работать в 2011 году, когда, собственно, появился факультет филологии — как-то так он назывался. Меня туда пригласили в самом-самом начале, когда он ещё формировался. И сначала, я бы сказала, где-то за год, начались обсуждения, приготовления и так далее. А активная работа — уже, наверное, летом 2011 года. Так что я работаю с самого появления образовательной программы «Фундаментальная и компьютерная лингвистика».
— Что предшествовало тому, как вы попали в Высшую школу экономики? Какой у вас был бэкграунд, чем вы до этого занимались?
— Наверное, надо ещё сказать, почему я вообще оказалась здесь. Я довольно долго была знакома с разными людьми, которые основали нынешнюю Школу лингвистики. Во-первых, я училась в Российском государственном гуманитарном университете, РГГУ, и моими научными руководителями были Владимир Александрович Плунгян и Екатерина Владимировна Рахилина. С ними я ещё ездила в экспедиции, и вообще это такие люди, которые, можно сказать, меня вырастили. Затем я поступила в аспирантуру в ВИНИТИ, где работала Екатерина Владимировна Рахилина, и при большом её участии писала диссертацию. Руководителем моим была Елена Викторовна Падучева.
Во-вторых, я немного сотрудничала с группой словаря синонимов, который делали в Институте русского языка. Мы были хорошо знакомы с Валентиной Юрьевной Апресян и вообще, надо сказать, со всей Московской семантической школой: с Юрием Дерениковичем Апресяном, с Ниной Давидовной Арутюновой, со многими другими замечательными людьми. Это была такая большая, я бы сказала, движуха академическая в Москве.
Итак, я окончила аспирантуру, защитила диссертацию в ВИНИТИ, а потом там сделали отдел, в котором мы стали заниматься Национальным корпусом русского языка. Параллельно я ещё работала в Московском государственном университете, на кафедре русского языка как иностранного: и преподавала, и занималась разной методической деятельностью. В какой-то момент мне захотелось поехать на стажировку, я попала в Университет Тромсё, с которым у Школы лингвистики потом сложилось, на мой взгляд, очень удачное сотрудничество. И вот из Университета Тромсё меня пригласили в Высшую школу экономики — как зарубежного ученого.
— Какой была ваша лингвистическая деятельность в Вышке, в Школе лингвистики? Как она менялась?
— В самый первый год я преподавала много дисциплин вроде русского языка, риторики, культуры речи на разных факультетах: у менеджеров, у журналистов… Это был очень интересный опыт: я вела предметы, связанные и с когнитивной лингвистикой, и со статистикой немножечко. В основном мы рассказывали студентам о Национальном корпусе русского языка, о языковых технологиях.
Но, естественно, у нас уже были наши собственные студенты, и с ними начались разные интересные проекты, активное научное взаимодействие. Постепенно наших студентов становилось больше, и у меня появилось больше курсов именно на программе «Фундаментальная и компьютерная лингвистика».
Через пару лет стало понятно, что пора открывать магистратуру, и вместе с Анастасией Александровной Бонч-Осмоловской мы придумали программу по компьютерной лингвистике. С тех пор я много работаю и там.
— А сейчас, кроме преподавания, чем занимаетесь в Школе лингвистики?
— У нас со студентами много разных научных проектов, связанных прежде всего с разработкой текстовых и речевых корпусов и датасетов для задач компьютерной лингвистики. Много всего делаем, в том числе, что называется, “for fun”.
— Вы были знакомы с основателями Школы лингвистики ещё до того, как она открылась. Официально её утвердили в 2014 году, но когда, на ваш взгляд, она появилась на самом деле?
— Я всё-таки меньше внимания обращаю на административную сторону. Мне кажется, как только у нас появились студенты образовательной программы «Фундаментальная и компьютерная лингвистика», появилась и Школа.
В первые два года сформировался замечательный коллектив, постепенно народ приходил. Часть этих людей были моими однокурсниками: например, с Михаилом Александровичем Даниэлем мы вместе учились в РГГУ. Кто-то потом присоединился, как Наталия Анатольевна Слюсарь. Я знала о ней задолго от того, как она к нам пришла, потому что в Университете Тромсё, на высокой горе, Татьяна Владимировна Черниговская вспомнила: «Ой, а у меня есть такая замечательная Наташа Слюсарь» — и стала мне про нее рассказывать.
— Как распределялись задачи между людьми, которые создавали Школу лингвистики?
— Я, наверное, не могу точно ответить на этот вопрос. Потому что, когда что-то начинается, то есть ощущение такого большого общего дела . И самое главное в этом ощущении, что нет каких-то людей, которые понимают, что им это не нужно. Никого не надо тащить за хвост, принуждать — это я, кстати, совершенно не умею, я умею работать только с теми людьми, которым что-то очень хочется сделать.
когда что-то начинается, то есть ощущение такого большого общего дела
У нас тогда было много-много обсуждений. Мы собирались в разных кафешках вокруг, скажем, Китай-города, потому что там, собственно, и планировали открыть факультет. И бесконечно обсуждали, придумывали всякие учебные планы, курсы. Не то чтобы один человек придумывал какой-то курс. Скорее, человек приходил с идеей или ему говорили, что нам, наверное, нужен такой курс и надо его придумать. Но дальше практически все основные курсы, их общее содержание обсуждали все вместе.
За основу мы брали программу ОТиПЛа — Отделения теоретической и прикладной лингвистики МГУ, и Института лингвистики РГГУ. Смотрели на разные курсы там и придумывали свои.
— С какими сложностями столкнулась команда?
— Давайте я лучше смешную историю расскажу. Нам вот, например, не давали пропуск на работу. Поскольку мы уже должны были быть приняты на работу, мы хотели, чтобы всё-таки нам показали, где мы будем работать, что будем делать и так далее. Но такого не было! Я почему и говорю, что мы ходили вокруг да около. Даже когда наступило первое сентября, не было ощущения, что это всё откроется. Но когда мы пришли и увидели, что есть студенты, когда мы посмотрели на них, а они посмотрели на нас... вот это было совершеннейшее счастье.
Это, к слову, не первая программа, в создании которой я на тот момент участвовала. Мы с Михаилом Александровичем Даниэлем были в числе первых выпускников Института лингвистики РГГУ и поэтому практически сами разрабатывали свои учебные планы, сами думали, кого бы нам позвать к себе преподавать. Я, конечно, не могу говорить, что тогда студенты бо́льшую часть делали, но было ощущение причастности.
Потом мы создавали Национальный корпус русского языка — тоже с нуля. Программу, связанную с лингвистикой, в Тромсё — в общем-то, тоже с нуля. На самом деле я считаю, что я везучий человек, раз мне удалось на раннем этапе присоединиться к таким разным хорошим делам.
— Когда только планировалось открытие Школы лингвистики, она должна была быть на Китай-городе. А как вообще в течение 10 лет менялось её географическое положение?
— Начинали мы на Хитровке (Хитровский переулок. — Прим.). Там такое небольшое здание, сейчас в нем находится Факультет креативных индустрий. Я помню, что наша первая, так сказать, кафедра занимала примерно шесть квадратных метров. Было ощущение классической старой московской кухни. Поскольку Екатерина Владимировна любит диванчики, то первым делом на нашей кафедре появился именно диванчик: можно было сесть, что-то обсудить. А если нужно было всем собраться, то приходилось стоять плотненько и ещё немножко в дверях… Но это было здорово.
Ещё мы работали на Трифоновской улице, недалеко от станции метро «Рижская». Это было недолго, но очень приятно: район хороший, зелёный. В тот момент там строили большое представительство армянской диаспоры, рядом ещё была Трифоновская церковь старинная. И по дороге на работу почему-то всегда все со всеми встречались. Наверное, потому что все ходили от одного и того же метро. Вот из корпуса на Старой Басманной, где сейчас находится факультет, можно пойти на три разные станции, и ещё кто-то ездит на автобусе. А там мы и со студентами, и с преподавателями непременно встречались и разговаривали, пока шли на учебу и работу.
Мы учились и на Покровке (Покровский бульвар. — Прим. ). Точнее это была какая-то распределенная система, потому что студенты учились на Покровке, в нынешнем главном здании, а преподаватели сидели на Хитровке и ещё где-то поблизости. А потом, по-моему, мы уже попали на Старую Басманную.
— Чем запомнился первый выпуск ФиКЛа?
— Это в основном были дети, которые пришли на первый курс, не очень понимая, что же вообще такое лингвистика. Я помню, что только две девочки активно участвовали в олимпиаде по лингвистике (Традиционная олимпиада по лингвистике. — Прим. ), ездили в летние школы. Но преимущественно это были люди, которые, попали на наш факультет случайно — например, хотели поступить в МГУ, не поступили и пошли к нам.
Те студенты, на мой взгляд, были менее подготовленные, чем нынешнее ядро призеров и победителей всероссийских олимпиад. Но они были очень-очень мотивированы. Я запомнила именно их рост — заметный, значительный. То есть мы каждый год видели, насколько сильно они растут.
мы каждый год видели, насколько сильно они растут
А ещё мы с самого начала решили, что невозможно учиться в Школе лингвистики, не участвуя в экспедициях, и сразу придумали много экспедиций в разные регионы. Сейчас это всё продолжается, примерно в те же регионы можно поехать. Хотя раньше, например, не ездили в дальние места наподобие Чукотки. Тогда мы либо сами организовывали экспедицию, либо присоединялись к МГУ.
Кроме того, уже у первых студентов появилась возможность от Вышки ездить на стажировку в зарубежные университеты. Забавно, что некоторые приезжали прямо в восторге, а некоторые, наоборот, говорили: «Ну как-то там скучно. Вот здесь ты всё время не ешь, не спишь, постоянно у тебя какие-то занятия, а там мы отоспались, но всё-таки это не так интересно». Собственно, вот такой был наш первый выпуск.
— А учебный процесс в Школе лингвистики тогда чем-то отличался от современного?
— На мой взгляд, не очень сильно. Ядро основных лингвистических дисциплин, мне кажется, осталось прежним. Сильно менялось содержание курсов, потому что прошло больше 10 лет, а наука не стоит на месте. Гораздо больше стало формальной лингвистики у нас, потому что появились хорошие специалисты, в том числе умеющие сочетать формальный и функциональный подходы. Кроме того, новые учебники издаются и в России, и за границей. Естественно, мы всё это используем.
Больше меняются дополнительные дисциплины. Просто идёт время, и обновляется набор спецкурсов — он и должен обновляться. Кстати, сейчас многие лингвистические курсы и спецкурсы ведут уже наши выпускники.
— Сейчас первые выпускники каким-то образом взаимодействуют со школой лингвистики?
— Несколько человек стали работать на программе «Русский язык как иностранный». Ещё одна выпускница, Даша Перова, много лет работает у нас в учебном офисе, очень нам помогает. Академически мотивированные студенты тогда уезжали учиться в аспирантуру, на PhD, в Европу и в итоге там остались. Но мы до сих пор поддерживаем контакт: встречаемся по возможности, проводим конференции совместно с вузами, где работают выпускники. Иногда они просят наших нынешних студентов помочь провести какое-нибудь компьютерно-лингвистическое соревнование, например.
— Какие события, связанные со Школой лингвистики, стали для вас знаковыми, запомнились лучше всего?
— За всё время существования Школы лингвистики было очень много лекций от приглашенных спикеров — самых сильных исследователей и просто замечательных людей. И, главное, были представлены разные области лингвистики — от фонетики до прагматики.
Для меня лично знаковым событием стал момент, когда мне написали ребята из «Яндекса» и сказали, что к ним приезжает профессор Иоаким Нивре из Университета Уппсалы. Он тогда стал вице-президентом международной Ассоциации компьютерной лингвистики и собирался создавать так называемые корпусы Универсальных зависимостей. Придумал, что много-много разных лингвистических корпусов должны быть объединены так, чтобы можно было их разметить примерно одинаково.
Слово «универсальные» обозначало, скорее, некоторую унификацию — что специалисты по разным языкам, в том числе типологически редким, сядут вместе и начнут обсуждать, как именно им вместе работать с подобными ресурсами. И вот я помню, что мы, собственно, привезли Нивре из «Яндекса» в Школу лингвистики, собрались студенты, и мы сели обсуждать, как что должно быть устроено. Потом наши студенты поехали куда-то за границу стажироваться, а в Школе лингвистики с тех пор есть некое движение по разработке этих корпусов.
На мой взгляд, очень важно, что стали появляться разные научные и учебные лаборатории. Сильно на Школу лингвистики повлияло создание Международной лаборатории языковой конвергенции. Нина Роландовна Добрушина была главным драйвером этого процесса, а «западным» руководителем — Джоханна Николс. У наших студентов, прежде всего самых сильных и мотивированных, появилась возможность не только погрузиться в мир лабораторных проектов, но и взаимодействовать с учеными со всего мира. Особенно на первых порах это был, я бы сказала, международный комитет специалистов, которые и приезжали друг к другу, и в Скайпе общались… Всё это очень важно. Чем больше людей и подходов видит студент, тем, по-моему, лучше.
Чем больше людей и подходов видит студент, тем, по-моему, лучше.
— Что, на ваш взгляд, было самым необычным из того, что вы делали в Школе лингвистики?
— Наверное, тут надо вспомнить, как я ездила в экспедицию, которую организовала Светлана Юрьевна Толдова. Это была стандартная экспедиция, то есть все жили где-то на квартире, спали в спальниках — такое нас совершенно не удивляло. Но в какой-то момент нам сказали, что, поскольку нас приглашал музей, то музей просит, чтобы мы поехали в лагерь для детей — его сделали где-то на острове, на реке...
Нас погрузили в лодки, мы со студентами ехали, приехали — а там просто всё чёрное от комаров, мошек и всего, что обычно летает на Оби, в Западной Сибири. Вот такой был удивительный опыт. Ну и, естественно, было интересно посмотреть, как языки Севера сохраняются или не сохраняются в поколении детей, потому что мы всё-таки обычно с информантами старшего возраста работаем.
— Какое свое достижение вы считаете главным за время работы в Школе лингвистики?
— Много-много студентов, которых может быть, не мне лично, но нам всем удалось воспитать. При этом, на мой взгляд, важно не только то, что они выросли профессионалами, но и то, какие человеческие ценности мы смогли в них заложить.
Вот бывает, что студенты приходят из школ практически с военным укладом: там все вымуштрованы и привыкли послушно выполнять указания педагогов. А из нашего бакалавриата или магистратур те же ребята выпускаются гораздо более открытыми, причём у них много собственных идей и какой-то доброй инициативы. Вот это, мне кажется, самое главное.
— Какие ещё проекты вам хотелось бы реализовать в Школе лингвистики?
— Поскольку я много занимаюсь лингвистическими ресурсами, мне прежде всего кажется важным дальше развивать проекты, связанные с документированием малых языков. У нас много материалов экспедиций, да и просто источников, которые ещё пока не оцифрованы. Хочется довести всё это, говоря профессиональным языком, до продуктового состояния — чтобы людям было удобно пользоваться. Плюс важно учесть международный опыт, чтобы сделать эти ресурсы взаимопонятными и правильно организованными.
Вторая моя большая мечта — чтобы у нас было больше исследований, связанных с устным языком: с интонацией, особенностями фонетики и так далее. Не могу сказать, что я в этой сфере большой специалист, но хотелось бы, чтобы мы со студентами в это вложились.
— Традиционный заключительный вопрос. Есть ли что-то, что вам бы хотелось рассказать в интервью к десятилетию Школы лингвистики, но что мы не обсудили?
— Я бы, наверное, хотела сказать огромное спасибо моим коллегам, с которыми удалось поработать. В том числе тем, кто по разным причинам теперь у нас в Школе лингвистики не работает. Я понимаю, что без них я не была бы я, потому что, конечно, до Вышки я лингвистику почти не преподавала. Очень и очень много мне в этом плане помогали и старшие, и, наоборот, младшие по возрасту коллеги.
Интересно, что к нам в магистратуру приходят студенты, вроде бы юные, но столькому нас учат! Просто потому, что они пришли из некоторой области, с которой мы раньше не были связаны. Совершенно прекрасные менеджеры у нас были, которые брали всё в свои руки, например, студенческие проекты, а мы благодаря им понимали, как правильно вообще-то нужно это организовывать. Так что хочу сказать всем большое спасибо.
- О ВЫШКЕ
- Цифры и факты
- Руководство и структура
- Устойчивое развитие в НИУ ВШЭ
- Преподаватели и сотрудники
- Корпуса и общежития
- Закупки
- Обращения граждан в НИУ ВШЭ
- Фонд целевого капитала
- Противодействие коррупции
- Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Сведения об образовательной организации
- Людям с ограниченными возможностями здоровья
- Единая платежная страница
- Работа в Вышке
- ОБРАЗОВАНИЕ
- Лицей
- Довузовская подготовка
- Олимпиады
- Прием в бакалавриат
- Вышка+
- Прием в магистратуру
- Аспирантура
- Дополнительное образование
- Центр развития карьеры
- Бизнес-инкубатор ВШЭ
- Образовательные партнерства
- Обратная связь и взаимодействие с получателями услуг
-
http://www.minobrnauki.gov.ru/
Министерство науки и высшего образования РФ
-
https://edu.gov.ru/
Министерство просвещения РФ
-
http://www.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование»
-
https://elearning.hse.ru/mooc
Массовые открытые онлайн-курсы
- © НИУ ВШЭ 1993–2026 Адреса и контакты Условия использования материалов Политика конфиденциальности Карта сайта
- Редактору